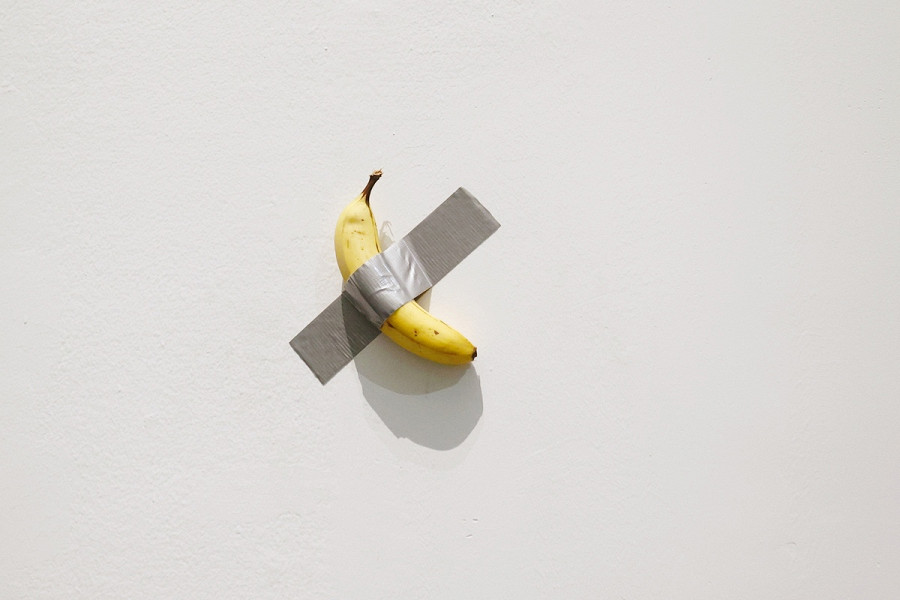8 июля прошло последнее заседание суда по делу историка Юрия Дмитриева — главы карельского «Мемориала», которого обвиняют в сексуальном насилии над приемной дочерью. Ранее на него уже заводили дело — из‑за обнаженных снимков дочери, которые оперативники нашли на его компьютере в 2016 году. В 2018-м повторная экспертиза не нашла на фотографиях признаков порнографии, и дело закрыли. Но спустя два месяца Верховный суд отменил это решение, и почти сразу против Дмитриева выдвинули новые обвинения. Их суть удалось выяснить «Новой газете»: Дмитриева судят за то, что он несколько раз касался паховой области дочери, чтобы проверить сухость белья. У девочки во втором классе был энурез, это подтверждает эпикриз из больницы. Лингвисты, изучившие текст бесед приемной дочери со следователем и психологом, пришли к выводу, что ребенок дал показания против опекуна под давлением. 22 июля суд вынесет приговор Дмитриеву — ему грозит до 15 лет колонии. В преддверии этого «Афиша Daily» публикует последнее слово историка с заседания 8 июля. Впервые оно появилось на «Медузе».
Уважаемый суд! Вот уже второй раз я выступаю в этом бесконечном процессе с последним словом. И хотел бы разъяснить мою позицию — если она еще суду не ясна — о том, почему я такой, почему я поступаю так и почему я в этой клетке оказался.
Ваша честь, я уже докладывал суду, что я, может быть, не совсем обычный человек, не как все остальные люди. То есть я родился как нормальный, обычный человек, но я не знаю, кто мои биологические родители, откуда они, какой они национальности, какой веры, какой культуры. И это меня здорово устремляет к розыску своих корней. Я эти попытки предпринимаю уже больше 30 лет, пока не очень успешно, но я думаю, что я все-таки смогу когда‑то докопаться до этой истины — какая кровь во мне бурлит и какие гены во мне играют. Поэтому мне как ребенку, которого усыновили в полтора года, тема сиротства близка — и я ее переживаю изнутри.
Да, есть такая тяга — узнать свои корни. Для чего это делать? Для того чтобы знать, к какой культуре ты принадлежишь. Я не хочу сказать, что я какого‑то там княжеского рода. Мне важно для себя осознать, сыном какого народа я являюсь. Потому что человек отличается от насекомого — от бабочки или жука колорадского — тем, что он имеет память. И вот эта память о своих предках, желательно до седьмого и более колен, — она делает человека более самостоятельным в суждениях, она позволяет делать более правильные выводы, потому что в тебе сконцентрирована память поколений. У меня, к сожалению, таких знаний нет, поэтому я к ним стремлюсь.
Для чего я рассказываю это? Для того чтобы вы, ваша честь, смогли понять те мотивы, которыми я руководствовался в своих действиях по приему в семью вот такого же ребенка, который лишен родительской заботы и опеки. Поэтому какие‑то препоны на этом пути — причем на пустом месте и по желанию одного или двух чиновников в администрации, — они не являлись непреодолимой преградой для того, чтобы мы с женой могли взять ребенка в семью. Суд знает, какие были предприняты действия, в материалах дела это изложено. Мы сейчас на этом останавливаться не будем и ограничимся тем, что победа в борьбе за опекунство меня призвала более внимательно относиться ко всему, что связано с нахождением ребенка в нашей семье.
Тут [в суде] органы прокуратуры говорили, что мы плохо следили за состоянием здоровья [дочери]. Это второй пункт договора о создании семьи: я обязан контролировать физическое здоровье. И поэтому все это, как вы видели, ваша честь, задокументировано. Я, может быть, шел впереди паровоза, но я взял на вооружение рекомендации, которые прозвучали с высокой правительственной трибуны еще до вступления закона о телемедицине в жизнь.
Наша уважаемая прокуратура говорит, что закона о телемедицине нет. Наши уважаемые карельские медики твердят, что никакого приказа Министерства здравоохранения не существует. А в то же время этот приказ известен в Москве, и его два года там уже используют. Мало того, могу вам сказать: еще в 2008 году по какому‑то из этих приказов создана лаборатория телемедицины в нашем медицинском институте. Она есть, там есть установочные документы, там есть ссылка на приказ. И если наши уважаемые карельские врачи говорят, что посредством снимка, фотографии невозможно поставить диагноз… Может быть, и невозможно, но предположить наличие какого‑то заболевания и отправить ребенка к нужному узкому специалисту профессионал сможет.
Сюда приезжала и выступала в качестве специалиста… Не могу сказать точно ее должность, у меня нет протокола заседания. Так вот она прямо по какому‑то снимку определила наличие у ребенка заболевания. Когда у человека переломы, рваная рана — тут я вижу, могу предпринять какие‑то действия: забинтовать, наложить шину, холод. А если я не понимаю, что там внутри у ребенка спрятано?
Поэтому я бил тревогу неоднократно в связи с дефицитом веса [дочери]. Когда мы взяли ребенка в три с половиной года, она весила 12 килограмм. В 11 лет, когда ее изъяли из нашей семьи, она весила 24 килограмма. Это вес первоклассника, а [дочь] уже ходила в пятый класс. Дефицит веса постоянно составлял от 25 до 30%, и это меня здорово тревожило.
Первое направление к эндокринологу она получила в шесть лет, в детском садике. Специалисты поликлиники долго и тщательно исследовали и область шеи, щитовидную железу, и низ живота, то есть органы малого таза. Другие ребятенки заходят в этот кабинет: семь, восемь, десять минут. Мы в этом кабинете проводили по 30, по 40 минут. «Ничего вроде страшного нет, но вот есть что‑то». «А давайте подождем следующего раза, тогда, может быть, станет яснее».
Девочка занималась спортом достаточно активно. Питалась хорошо — у нас, извините, семь дней в неделю мясо. Говядина, баранина, курица, на завтрак сарделька хорошая с гарнирчиком. На питании мы не экономили, слава богу, денежек хватало. И [все равно] ребенок — худой и тощий. Поэтому это меня здорово напрягало.
В конце концов уже в 2016 году что‑то удалось разглядеть товарищам медикам, и нас отправили сначала в детскую городскую больницу на более детальное обследование, а потом предложили пройти обследование в детской республиканской больнице. Проходила его [дочь] или нет — итогов я, к сожалению, не знаю, потому что буквально за месяц до этого, 13 декабря, я был взят под стражу.
Всех остальных специалистов мы тоже проходили. На последней диспансеризации окулист сказал, что немножко подсело зрение, из‑за того что ребенок много играет в телефоне. Ну, принял волевое решение — заменил ребенку телефон на обычный, в котором нет таких игр, которые угнетали бы зрение. Говорю: «Подожди, до Нового года посмотрим, зрение восстановится, верну я тебе твой телефон». Кстати, обещал ей на Новый год, если четверть без двоек закончит, еще и планшет купить новый… Два планшета она у меня уже расхлястала.
Ваша честь, еще раз хочу сказать, что никаких гнусных действий в отношении [дочери] я не предпринимал. То, что пытаются выдать за какие‑то там чуть ли не эротические прикосновения, — это всего-навсего интерпретация родительской заботы. Не лазил, не рассматривал, не трогал, не щупал, не гладил и так далее и тому подобное! Все, что там придумано товарищем следователем и усердно повторено нашей любимой прокуратурой, не соответствует действительности.
Теперь поговорим о том, зачем я взял [ребенка]. Почему — я уже объяснил. Как это происходило, как я следил за ее здоровьем — я тоже рассказал. А теперь — зачем я взял ребятенка в семью.
Понимаете, я бесконечно благодарен моим родителям, тем, которые меня воспитали. Это Алексей Филиппович Дмитриев, кадровый военный, офицер, фронтовик. И мама, Надежда Димина. Они из простых крестьянских семей. Папа из Сибири, из Тюменской области, мама — вологодская, из каких‑то глубоких деревень. Во время войны они познакомились, в 1946 году поженились. Папа трижды ранен: один раз пулей, один раз осколком и один раз штыком — под сердцем шрам остался. То есть кололи, но не успели — подстрелили немца.
Когда они поняли, что своих деток им господь не даст (очевидно, из‑за тех лишений и страданий, которые они пережили на войне), они совершили, с моей точки зрения, свой гражданский подвиг. Они взяли меня из детского дома. Они меня вылечили, выходили, вырастили и воспитали так, что мне сейчас, стоя в этой клетке, не стыдно смотреть им в глаза. Не стыдно (родители Дмитриева умерли в 2000 году с разницей в пять дней. — Прим. «Медузы»).
Следуя их примеру и помня, что мне подарили жизнь, мы с женой тоже решили взять ребенка и воспитать его в соответствии с теми принципами, на которых воспитывали нас. Все действия, которые мы производили и для приема [девочки] в семью, и для того чтобы она росла здоровая, активная и так далее, регламентированы законами Российской Федерации: и Семейным кодексом, и всеми другими законами.
Я считаю — и Конституция Российской Федерации меня в этом поддерживает, — что сила государства не в танках и пушках, не в ядерных ракетах и возможности послать всех к какой‑то матери. Нет, сила государства — в его людях. Как люди будут себя в этом государстве вести, так оно будет и развиваться, и богатеть, и умнеть. Поэтому мы хотели, в соответствии с этими пожеланиями нашей Конституции, воспитать девушку — ну, пока девочку, потом подростка, потом девушку, — чтобы она была полезным членом для нашего общества.
Мы никогда насильно каких‑то ценностей ребенку не прививали. Не говорили, что надо любить папу, потому что он папа. Не говорили, что надо любить маму, потому что она мама. Это ребенок должен делать сам в ответ на нашу с вами любовь. Мы не говорили, что надо любить государство. Это человек делает сам, когда чувствует заботу этого государства. Собственно говоря, поэтому я и крестил — вернее, разрешил [дочери] креститься — так поздно.
Первый раз она заговорила о возможности носить крестик на шее еще в детском садике, когда увидела у кого‑то из детей крестик. «Папа, я такой же хочу». Ну, папа ей объяснил, что это не просто украшение. Объяснил, что когда она подрастет и захочет верить в бога, выберет себе что‑то, что ей больше нравится, — тогда и крестись, пожалуйста. Поэтому мы и крестили [дочь] так поздно, в девять лет. В восемь лет она изъявила желание покреститься, я на год отправил ее в воскресную школу, чтобы она узнала, что такое вера, чтобы объяснили ей грамотные люди, что за этим следует, и научили все делать правильно, если она захочет принять крещение. По окончании воскресной школы я еще раз спросил, хочет ли она креститься. Она сказала: хочу и знаю, зачем. Никто ее не заставлял, не понукал, никакими подарками [не прельщал].
И тут как‑то господь сподобил, по-другому не скажешь, — [дочь] удостоилась чести быть крещенной на Соловках. Это очень древний, святой монастырь. Кроме того что он древний и святой, это еще и, с точки зрения новейшей истории нашей, страшное место, это Соловецкий лагерь особого назначения, печально знаменитый СЛОН.
[Дочь] принимала крещение в Свято-Вознесенском храме на Секирной горе. За 200 лет существования этого скита можно сосчитать на пальцах одной руки, сколько человек [в нем] было крещено. Это очень строгий скит, очень святое и трагическое место. А женщин на Секирную гору вообще не пускали в старые времена. Сейчас можно приходить, но ни одной барышни там крещено не было. [Дочь] — первая и единственная. И я благодарю господа, что он разрешил [дочери] там креститься.
В советские годы, в 20-е и 30-е, это был штрафной изолятор, там содержались сотни людей в неимовернейших условиях, там содержали перед расстрелом приговоренных к высшей мере наказания. Буквально в 30–40 метрах от этой церкви их расстреливали, это одно из первых кладбищ на Соловках, которые я тоже обнаружил.
И как‑то настоятель этого скита и настоятель всего монастыря, ну, не противились тому, чтобы [дочь] приняла крещение по монастырскому обряду на Секирной горе. И когда это таинство произошло, я честно предупредил [дочь]: теперь у тебя будут большие испытания, потому что раз человеку много дано, раз он крещен в таком месте, то господь будет проверять его на прочность.
Дома она сама, без моего участия (я видел, проходя мимо), иногда молилась. И вот сейчас, когда я спрашивал бабушку в вашем присутствии, ваша честь, посещает ли [дочь] храм, и услышал, что нет, я понял, почему я не ощущаю ответной связи с [дочерью]. Ведь первые, наверное, месяцев семь-восемь я знал, внутри себя ощущал — у меня были те же ощущения, какие были у [дочери]. Мы так устроены. Мы так настроены друг на друга. Если ребенку страшно — я это ощущаю. Если ребенку холодно — я тоже мерзну. Если ребенку жарко — я это знаю. Если ребенок на тренировке выполняет удачный или неудачный бросок, я тоже это ощущаю.
Сейчас у нас в… тренде — в тренде, да? — разговор о патриотизме. Так вот, извините, патриотизм в разговоре не заключается. Кто такой патриот? Патриот — это человек, любящий свою родину. У нас почему‑то сейчас принято гордиться только военными успехами. Извините, родина — это мать. Мама иногда болеет, у мамы иногда что‑то не получается. И что, мы в это время перестаем ее любить? Нет. И — я не знаю, к счастью или к несчастью — мой путь, моя дорога заключается в том, чтобы возвращать из небытия тех людей, кто сгинул по вине государства нашего родного, будучи несправедливо обвиненными, расстрелянными, зарытыми в лесах, как бездомные животные. Нет ни холмика, никаких упоминаний, что здесь похоронены люди. Господь дал мне, может быть, такой крест, но господь дал мне и такие знания. Мне удается — нечасто, но иногда — находить места массовых человеческих трагедий. Я соединяю их с именами и пытаюсь сделать в этом месте место памяти, потому что память — это то, что делает человека человеком.