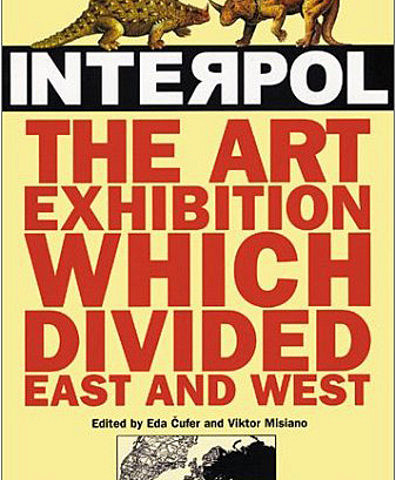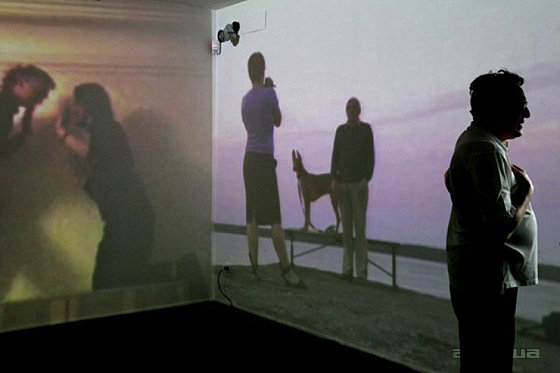50 главных людей в современном искусстве Первая десятка
«Афиша» попросила художников, кураторов, галеристов, коллекционеров и критиков составить списки главных, по их мнению, людей в современном искусстве. Теперь мы публикуем результаты опроса. Сегодня — десятка победителей. С деталями проекта и персональными списками 57 экспертов можно ознакомиться здесь.
10. Роман Абрамович и Дарья Жукова, меценаты, владельцы центра «Гараж»

Крупнейшая частная институция современного искусства в России, ЦСК «Гараж» принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу и его подруге Дарье Жуковой. Их даже можно вместе увидеть на вернисажах. В этом году «Гараж» переезжает в ЦПКиО им. Горького, реконструкция которого — тоже дело рук Абрамовича.

Константин Звездочетов
художник
«Роман Абрамович и Даша Жукова — это и есть наше актуальное современное искусство. Когда искусство становится мейнстримом, это неизбежно приобретает именно такие формы. Вот мы же все ходим на какие-то биеннале, и там ведь не только художники-гении присутствуют. Там есть и художники-карьеристы, и художники-финансисты, и просто притухшие люди, которые выпить пришли. Но никто ведь не задается вопросом, хорошо это или плохо. Потому что это нормально. «Гараж» лично мне не нравится; не мое это. Но мне нравится, что в «Гараже» выставляется интересное искусство, причем не только русское, но и то, которое везде. Это формирует общественный вкус — наш вкус. Было бы дико, если бы у нас никто об этом не заботился, и мы все продолжали собираться по квартирам. Я не знаю, что бы ответил, если бы Абрамович предложил мне выставку и гастроли с ней по всему миру. С одной стороны, я люблю комфорт, деньги. К тому же я человек слабохарактерный — мне неудобно отказать. Ну как это? Человек со всей душой ко мне, а я ему — да пошел ты! Некультурно как-то. Одно дело — Роман Абрамович и Даша Жукова как персонажи, как маски. И совсем другое дело, если я пожму ему руку, посмотрю в глаза, он перестанет быть для меня маской и станет человеком. И тогда, может, что и получится».
Смотрите также : Илья Кабаков, Марина Абрамович, Франсуа Пино, Айдан Салахова
9. Виктор Мизиано, куратор, главный редактор «Художественного журнала»

После упрощенного, изолированного от Запада советского искусствознания «Художественный журнал», чьим редактором с 1993 года был Мизиано, стал глотком свежего воздуха, аванпостом новой теории и критики. Главное кураторское достижение Мизиано — участие в создании самой прогрессивной европейской биеннале, Манифесты.

Олег Кулик
художник
«Мизиано — итальянец. Дедушка его бежал от фашистов в СССР и в лучших традициях был задушен в объятиях Сталина. Витя вырос уже здесь, и он настоящий русский куратор, которого мне не с кем сравнить. Мы знакомы с конца 80-х. В то время он был научным сотрудником Пушкинского музея — и уже производил впечатление блестящего человека. Он представлял новый тип куратора, который как бы сам немного художник, и вокруг него странным образом образовался кружок московских перформансистов. Ведь не было ни галерей, ни музеев, ничего — мне вообще тогда казалось, что вот есть Мизиано, есть «Художественный журнал», еще 20–30 человек — и все. 90-е годы — это галоп-поражение. Лошадей выпустили на старт, но они не смогли взять ни одного барьера. Но как упали, а?! Для меня это был самый лучший период в искусстве. Говорить, что Витя Мизиано делает выставки так, как это делают во всем цивилизованном мире, нельзя. Это упрощает его образ. Да, он очень европеизированный куратор, но в первую очередь он интеллектуал, глубоко проросший корнями в московскую ситуацию и пытающийся в этой среде применить свое пресловутое западное кураторство. Его позиция такая: даже если мы, художники, чего-то не понимаем, чего-то не знаем, мы все равно имеем право на самостоятельное высказывание. Понимаете? Для художника предельно важно, что в него кто-то по-настоящему верит».
Смотрите также: Олег Кулик, Иосиф Бакштейн
8. Николас Серота, директор галереи Tate

Директор лондонской галереи Tate уже в течение 20 лет: при нем была открыта Tate Modern с ее знаменитым турбинным залом, каждую новую выставку в котором обсуждает весь мир. Кроме того, возглавляет жюри премии Тернера и пишет колонку в The Guardian. В планах Tate — расшириться к 2012 году.

Антон Белов
директор центра «Гараж»
«Можно сказать, что он величайший деятель искусства второй половины XX века. Человек, который возглавляет музей Tate на протяжении последних двадцати пяти лет. В 2008 году он единственный был принят на постоянную работу, то есть он там сколько хочет, столько и будет работать на должности директора. Тут нужно понимать, что это не просто так было сделано. Это человек, который сначала занимался Музеем современного искусства в Оксфорде. Потом он сделал галерею Whitechapel в Лондоне. Он тогда придумал кучу всего, он первый занялся реконструкцией, он придумал формат с кафе-книжными. Провел благотворительный аукцион, на котором полтора миллиона фунтов собрали, а это девятьсот восемьдесят какой-то год был — безумные деньги, и они могли на это существовать очень долго. И, собственно, тогда его пригласили в Tate — он тогда был только в Лондоне, часть коллекции экспонировалась в музее, а остальная часть не экспонировалась вообще. Поэтому он пригласил каких-то людей, и они открыли еще два отделения по Великобритании — в Ливерпуле и в Сент-Ивсе. Он придумал тот самый Tate Modern. Он придумал Турбинный зал. Там экспонировались семечки Ай Вэйвэя и вообще самые знаменитые современные проекты. Он же придумал The Turner Prize — премию в области искусства. Она по всему миру известна даже больше, чем в пределах Великобритании, потому что это каждый год какие-то скандалы, какие-то разные общественные дискуссии».
7. Екатерина Деготь, куратор, критик

Куратор, критик, искусствовед, редактор OpenSpace.ru, организатор выставки «Аудитория Москва», проходящей в дни биеннале, преподаватель Школы Родченко — и вообще одна из самых активных и мыслящих людей в здешнем арт-мире. Предмет интересов — современное критическое искусство и советское искусство 20–30-х. Юрий Сапрыкин поговорил с Деготь о том, что сейчас происходит с современным искусством в России и за ее пределами.
— В конце 2000-х вокруг современного искусства в России резко начали происходить довольно бурные события — появилось множество новых институций, площадок, школ, та же самая биеннале. Но в последние пару лет как будто бы все затихло. Что мы переживаем сейчас? Это стабильность, или застой, или последствия того, что в середине 2000-х пришли совершенно другие деньги и другая аудитория?
— У меня нет ощущения, что был бум, а стал застой. К искусству было приковано больше медийного внимания, потому что сверхбогатые впервые обратили внимание на искусство, начали делать свои проекты, стали ездить на Венецианскую биеннале, возникло такое явление, как светские гламурные события в области искусства. Возможно, новизна этого явления сейчас несколько притупилась, но если общественное внимание сейчас не приковано к современному искусству, то и слава богу! Следует отдавать себе отчет, что современное искусство не является искусством для массового зрителя и не имеет внутри себя такого подразделения в отличие от литературы, кино и музыки. Если зритель современным искусством не интересуется, это нормальная ситуация.
«В «Галерее «Бабушка» продаются кружева, кошечки, копилки, и это тоже «галерея»
— К сожалению или к счастью, зритель таки интересуется. Бум конца 2000-х связан не только с появлением Даши Жуковой, но и с возникновением несметных орд молодых людей, для которых посещение галереи — это естественная жизненная потребность. Количество потребителей современного искусства увеличилось в разы. Оказывает ли это влияние на само искусство?
— Влияние есть, причем негативное, хотя не столько на художников, сколько на обстановку вокруг. Художники-то знают, что от количества публики их успех не зависит. Но вот, например, один из галеристов в «Винзаводе» возмущен, что напротив его серьезной галереи открылось учреждение под названием «Галерея «Бабушка». В «Галерее «Бабушка» продаются кружева, кошечки, копилки, и это тоже «галерея». Так у широкого зрителя размывается представление о том, что такое галерея, такое профессиональное искусство. Один из самых страшных кошмаров профессиональных галеристов — это так называемая «Ночь в музее», когда приходит по ночам неподготовленная публика, которая начинает буквально лапать произведения искусства.

— Есть ли внутри художественного сообщества какая-то оппозиция миру арт-развлечений? Была же у нонконформистов советской эпохи очень четкая этика — в этом нельзя участвовать, туда нельзя ходить.
— Советский опыт был очень специальным, и, видимо, он неповторим — на Западе даже Кабаков его повторить не может. Но в России есть художники, которые пытаются это сделать. К ним относится Андрей Монастырский, который разрешает другим людям выставлять его произведения на Венецианской биеннале, но сам предпочитает ютьюб, где выступает под псевдонимом Семен Подъячев и выкладывает видео своих новых перформансов. Это не предназначено ни для выставки, ни для биеннале, это такой странный неофициальный вид творчества. Помимо этого, есть художники, которые открыто критикуют биеннале как форму глобального спектакля, развлечения и пытаются изнутри самого биеннале этому противостоять. Вообще, главная стратегия современного искусства — это саботаж удовольствия. С этого начал Казимир Малевич, который вместо обнаженной красотки розового цвета предложил ничего не подозревающему зрителю черный квадрат — и зритель ушел крайне подавленным. Это стратегия саботажа: вы пришли на биеннале развлекаться, а мы вам развлекаться не дадим. Мы вам дадим что-то мрачное, незрелищное, или очень умное, сложное, или, наоборот, вообще почти ничего не будет на выставке. Проблема в том, что постепенно вырос зритель, который любит именно такого рода мазохистское удовольствие. Если ему покажут красивую картину, он скажет: «Фу! Это что? Этого, извините, нам не надо. Мы выше этого. Лучше дайте нам какую-нибудь там фигульку маленькую и противную». Над этим феноменом сам арт-мир смеется. Но в искусстве есть также стратегии более продуманной, я бы даже сказала, политической формы неучастия в подобного рода мероприятиях, вместо них художники используют формы социального, исследовательского, прямого активистского действия. Правда, мы знаем, капитализм все интегрирует. Почему он, собственно, и выиграл в соревновании с советским коммунизмом — советский коммунизм пытался все запретить, а капитализм любую оппозицию интегрирует и тем самым разоружает. Сейчас группа «Война» считается такой радикальной активистской группировкой, но в принципе это очень легко интегрировать, легко выставить на биеннале.
— А есть люди, которых невозможно интегрировать?
— Есть очень радикальные человеческие варианты типа Александра Бренера, их мало. Но скорее степень сопротивления мейнстриму у художника проявляется на эстетическом уровне. Для чего он создает свою работу — для эстетического любования? Эстетическое любование — это метафора приобретательства. Когда я смотрю на вещь, я ее мысленно покупаю, я ею владею. Это буржуазное отношение к искусству, которого, например, в Средние века не было, потому что не существовало частного рынка искусства. Средневековый зритель смотрел на скульптуру в храме совершенно с другим чувством. У него не было желания ею обладать. Желание обладать — оно относится, как мы говорим, к автономному эстетическому объекту. Но есть художники, которые пытаются с этим бороться, разрушить чувство приобретательства — разными путями. Иногда пытаются создать что-то дидактическое, похожее на краеведческий музей. Много фотографий, бумаг — это называется research project. Чтобы зритель вместо желания обладать испытал желание почитать, восполнить свое образование. Это один из путей. Есть видео, которое тоже, как правило, пытается снять наше желание обладать предметом. Сейчас художники, которые занимаются социально-критическим искусством, вообще уходят от эстетического объекта. Дело не в теме произведения — дело в специфике отношений зрителя с произведением.
— На выставке «Борьба за знамя» вы показывали советское искусство 1920–1930-х — которое было представлено, во-первых, как искусство глубоко идейное, обращенное в будущее и проектирующее это будущее. И кроме того — принципиально демократичное искусство, разговаривающее на массовом языке. Может быть, я ошибаюсь, но политически-активистское искусство сейчас не ставит перед собой такой задачи. Даже группа «Война» — это все равно разговоры с самими собой.
«Мы выше этого. Лучше дайте нам какую-нибудь там фигульку маленькую и противную»
— Тем не менее это постоянно обсуждается. Существует желание выйти к зрителю, заговорить с ним на общем языке. Сейчас рецептом считается практика ситуационистов 1968 года, когда каждое твое жизненное движение — например, поговорить с соседом в метро — это тоже произведение искусства, тоже подлинная демократия. Обсуждается это очень сильно и много, происходит ли это на практике — трудно сказать. Публика, к которой обращались советские художники, тоже отчасти была фантазмом. Мы не знаем, чего эта публика хотела. У современной публики вообще уже есть массовое искусство, ей больше нравится Дали.
— Что касается группы «Война»: вы активно выступали за вручение им премии «Инновация». То, что делает «Война», для вас все-таки находится по эту сторону искусства?
— Для меня в вопросе о премии это было не важно. Я выступала из политических резонов, поскольку считаю, что премия является не художественным, а политическим актом. Если бы мы составляли список выдающихся русских художников, я бы не билась за то, чтобы туда вошла группа «Война». Но мы распределяли деньги, которые могли реально помочь этим людям и другим политзаключенным, даже сам факт включения в шорт-лист мог им помочь на суде, и я считала своим долгом это сделать любой ценой. А если спрашивать, являются ли они искусством, то, безусловно, да. Потому что они производят свои акции на видео и, безусловно, имеют в виду некий эстетический момент. Но опять-таки, как нас учит теория, то, что это искусство, вовсе не означает, что это обязательно хорошее искусство.
— А вам за кем из русских художников сейчас следить интересно?
— Могу сказать, кто из русских будет участвовать в нашем проекте «Аудитория Москва» (проект под кураторством Екатерины Деготь, в рамках которого в новом пространстве «Белые палаты» на Пречистенке будут проходить выставки, лекции и дискуссии. — Прим. ред.). Это Ольга Чернышева, Сергей Братков, Хаим Сокол, Яков Каждан, Юрий Лейдерман и Андрей Сильвестров, Давид Тер-Оганьян и Александра Галкина. Дмитрий Гутов был приглашен, но не смог. Из совсем молодых художников — Полина Канис. И группа «Что делать?», с которой я нахожусь в постоянной полемике, но которая, тем не менее, представляет довольно важный элемент художественных процессов. Я, кстати, не ратую исключительно за социально-политическое искусство. Создается такое впечатление, но это не так. У меня довольно ясные политические позиции, но искусство я ценю как раз такое, которое по поводу этих вопросов высказывается более сложно, диалектично и поэтично. Мне нравится традиция реализма, к которой относятся Чернышева и Братков, мне нравятся и поэтико-сюрреалистические вещи, которые делают Лейдерман или Яша Каждан. Как раз активистскую линию «Войны» я не поддерживаю в художественном плане. Я могу ей симпатизировать политически до какого-то предела, но я отнюдь не говорю своим студентам: «Все бросайте и начинайте заниматься политическим активизмом». Они как раз к этому рвутся, но я пытаюсь, наоборот, их остановить.
«Включиться в международный художественный процесс, сидя в России, невозможно»
— А как вы видите будущее своих студентов? Вот молодые художники, которые появились в 2000-е, — они уже 10 лет молодые.
— У них нет карьерных перспектив, им надо уезжать. Здесь нет рынка для молодых художников, коллекционеров нет серьезных, просто богатые люди не видят особого смысла в приобретении работ молодых художников. Включиться в международный художественный процесс, сидя в России, невозможно. Можно, если ты уже Монастырский, если у тебя есть репутация. А всем остальным я советую как минимум на несколько лет уезжать в Европу и там включаться в международный процесс. Потом уже ты можешь жить где хочешь, в Москве или в Гоа. Но нужно приобрести связи, показать свои работы, войти в какой-то дискурс, чтобы понимать, про что надо делать искусство.
— Типичный для журнала «Афиша» вопрос: чего нет в Москве — если говорить о современном искусстве? Вроде бы у нас несколько музеев современного искусства, но при этом нет ни одного. У нас несколько арт-школ, но по-настоящему их как бы и нет.
— Это все или потемкинские деревни, или какие-то паллиативные компромиссные варианты. У нас по-прежнему нет музея национального модернизма. Что такое музей современного искусства? Это музей, куда мы должны войти и прежде всего увидеть большие работы Кандинского и Малевича. Не сначала Петрова-Водкина — а сначала Малевича. У нас нет такого музея, который при этом не дружил бы с Русской православной церковью, а проводил бы интернациональную политику. У нас нет Вхутемаса, нет интеллектуального журнала по искусству. Нет некоммерческих художественных институций, существующих на деньги фондов, но предназначенных не для создания коллекций этих фондов, а на благо искусства. Нет системы грантов для молодых и вообще каких бы то ни было художников. Художника пригласили на выставку, но у него нет денег на билет — в любой стране у него есть выбор как минимум из 5–6 фондов, у которых он может попросить небольшой грант на поездку в Европу. У нас он скорее может пойти к своему знакомому олигарху, которой вынет из кармана 500 долларов. У нас, как ни странно, недостаточно галерей. Нет такой вещи, как молодая галерея для молодых художников, где художников вывозили бы на Запад, поднимали бы их с самого начала карьеры и вели бы, скажем, первые 10 лет. Никто не хочет этим заниматься. Это очень большой геморрой, а деньги небольшие. Вместо этого лучше стать частным дилером и перепродавать картины Шишкина. Поэтому у нас совсем ничего нет. Художники только по-прежнему есть, вот что меня удивляет!
Интервью: Юрий Сапрыкин
6. Андрей Монастырский, художник

Идеолог группы «Коллективные действия», инициатор самого интересного приключения в русском искусстве последней четверти ХХ века. В отличие от других, проводил застойные годы очень весело: ездил с «КД» в подмосковные леса и устраивал акции, документацию которых в этом году показали в Венеции.

Константин Звездочетов
художник
«Когда мы говорим «московский романтический концептуализм», подразумеваем — Монастырский. Не Гройс, не Кабаков, а Монастырский. Он основоположник, создатель этой кабаковоцентричной системы. Он все придумал и все организовал, он придал творчеству Кабакова такое значение. Розалинда Краусс придумала само понятие «современное искусство». Акилле Бонито Олива придумал трансавангард — то, что сейчас называют постмодернизмом. А вот Моня придумал все это постперестроечное искусство. Кроме того, он просто мощная личность. Сколько лет прошло с 1976 года? И он ничего для этого не предпринимает. Не ходит с портфолио по выставкам, не знакомится с кураторами. Сидит себе дома и что-то там говорит, делает. К нему тянется огромное количество людей — и он продолжает влиять. Группа «Мухоморы» — это племянники Монастырского, группа «Медицинская герменевтика» — его дети. А вот, скажем, Аркадий Насонов и Антон Смирнский — внуки. В отличие от большинства художников, Монастырский ведет абсолютно асоциальную художественную политику. Но это пример того, что человек обладает очевидной персональной мощью. Ее, бегая по тусовкам, не наживешь. Это дидактическое заявление. Это вызывает восхищение, и это единственное, что я могу сказать про Моню. Больше ничего не скажу! Ну, разве что… Забавный старик, уютные вечера, стол с подпиленными ножками под абажуром с кистями, пение под фисгармонь. Пели в основном про смерть. Он играл на фисгармонии, а я пел: «Смерть моя-а-а-а!..»
Смотрите также: Илья Кабаков, Борис Гройс, Константин Звездочетов
5. Ай Вэйвэй, художник

Его личная слава как политзэка и борца за свободу в условиях китайского тоталитаризма уже превышает славу его произведений. Делает вещи на стыке китайского национального искусства и международной поп-культуры. Из всех материалов предпочитает керамику.

Анатолий Осмоловский
художник
«Ай Вэйвэй открыл новую проблематику в современном искусстве, которую можно обозначить как «бесконечное множество» или «огромное количество». Его творчество близко китайцам в силу их гигантской демографической проблемы. Мы выставлялись вместе с ним в 2007-м на 12-й Documenta — и Ай Вэйвэй там был главной звездой. Он привез в Кассель 1001 китайца и построил для них гигантский сарай, в котором они все жили, чтобы гостиницу не оплачивать. Собственно, это был перформанс: китайцы ходили по городу с гидом, порождая ощущение ужаса у прохожих. Плюс по всему выставочному пространству Documenta расставили 1001 китайский стул XVI–XVII веков, на которых теоретически могли сидеть те китайцы, что приехали. А еще в центре одного из павильонов была построена пирамида высотой метров шесть из антикварных китайских дверей. Да, у Ай Вэйвэя непростые отношения с китайским правительством — но это все ерунда! Если бы он не был выдающимся художником, эти перипетии были бы интересны только правозащитникам. Задача современного художника — нащупать какую-то фундаментальную проблему и убедительно ее решить. Ай Вэйвэю это удалось. Его последняя известная работа — «Семечки подсолнуха» — выставлялась в Tate Modern в прошлом году. Пол галереи был усеян десятисантиметровым слоем керамических семян подсолнуха. Не знаю, сколько их там было — сто тысяч, миллион, — но каждое семечко было рукотворным. Их где-то лепили десятки тысяч китайцев! Вот это и есть «бесконечное множество». Тысяча китайцев, тысяча стульев, тысячи семян — все это вызывает совершенно безумное — в катарсическом смысле — ощущение».
Смотрите также: Николас Серота
4. Борис Гройс, теоретик, куратор

Единственный русскоязычный теоретик, имеющий международное значение. Его взгляды на искусство определяют то, как смотрят на искусство все остальные. Изобрел термин «московский романтический концептуализм» и написал основополагающий для истории советского искусства труд «Стиль Сталин». Живет в Германии.
Короткий фрагмент одной из самых доступных лекций Бориса Гройса

Сергей Братков
фотограф
«Гройс — философ, связанный с искусством. Он прогнозирует ситуации, делает неожиданные умозаключения. Знаете его последнее высказывание? Он говорил о том, что событие важнее, чем предмет искусства. Это весьма провокативное суждение, надо сказать. Смысл в том, что выставка важнее произведения. Да, это очень грустно. Но таков результат гройсовского анализа современного искусства в целом. И это верный результат. Мы ведь наблюдаем это повсеместно! Красиво представленная выставка — с определенной публикой, в красивом месте, верно разрекламированная — производит впечатление, превосходящее впечатление, полученное от выставленных на ней вещей. И вот так Гройс заводит публику — все с нетерпением ждут каждого его выступления. Ну и кроме того, он главный теоретик московского концептуализма. Фигура, особо приближенная к Кабакову, к Пепперштейну. И вообще крайне влиятельный человек — куратор русского павильона на последней биеннале в Венеции. Мы виделись с ним там, долго говорили. Редко он бывает в Москве — хотелось бы, чтобы был чаще. Но, понимаете, то, что он находится за границей, ставит его в выигрышное положение. Когда ты приезжаешь сюда один раз в несколько лет, ты, как высохшая почва во время дождя, впитываешь за пять дней то, что другие и за год не впитают. Можно сказать так: Гройс — это философ со взглядом со стороны, но вместе с тем исторически находящийся внутри. Весьма выгодное положение».
Смотрите также: Илья Кабаков, Константин Звездочетов, Андрей Монастырский
3. Марина Абрамович, художник

Сербская перформансистка, достигшая аномального для своей отрасли уровня известности. В начале карьеры жила в автомобильном фургоне, который теперь выставляет как экспонат. Ее отличают бесстрашие и элементарность жестов. Сегодня они упростились до того, что Абрамович может просто сидеть на стуле и смотреть на зрителей.

Ольга Кабанова
критик
«Абрамович — не просто какая-то фигура в истории искусства. Ее перформансы — это уже та часть культурного наследия, которая от нашего времени останется; без нее не обходится ни одна биеннале, ни одна большая выставка. Важно еще и то, что она потрясающая женщина, обладающая магнетическим воздействием. Когда на одной из церемоний вручения премии Кандинского она просто стояла со знаменем (а знамя — это ее любимая тема, тема поражения и чистоты) — это было волшебное превращение: скромная, немолодая, смуглая, не очень-то красивая женщина вдруг стала величественной и прекрасной. Причем публика уже заскучала, кто-то стал уходить, шушукаться, разворачивать конфетки — а Абрамович стояла стойко и производила сильнейшее впечатление. А впервые я столкнулась с ней на давней уже Венецианской биеннале — там была представлена документация работы «Балканское барокко». Это было во время балканской войны — и вот когда эта женщина, как плакальщица, сидит и моет окровавленные кости… Мне кажется, это даже в пересказе производит впечатление. Притом у нее бывают абсолютно хулиганские, эротические вещи — но вот эта величественность каждого жеста есть даже в них; именно они делают ее абсолютно потрясающим художником. И в случае с Абрамович никто уже не сомневается, является ли перформанс искусством, не является ли, — потому что все, что она делает, очень значительно, сильно и безусловно художественно».
2. Илья Кабаков, художник

Начал в 1960-е, но до сих пор считается главным. Эмигрировав на Запад, конвертировал закрытую советскую реальность в понятный всему миру художественный язык. Рисует графические альбомы и делает инсталляции, в которых рассказывает о жизни маленьких людей в условиях внешней несвободы.

Николай Молок
директор по развитию Stella Art Foundation
«Мы гордимся Кабаковым, потому что других предметов гордости у нас практически нет. Он как Айвазовский для наших антикваров: имеет гарантированный успех. Но при этом Кабаков — художник уже не русский, а интернациональный. Он в хорошем смысле слова расчетливый человек и делает выставки только в местах, имеющих международную репутацию. Например, на Венецианской биеннале или на «Документе» в Касселе. В России таких мест немного — Эрмитаж в Петербурге да Третьяковка в Москве. Большущее заблуждение, что Кабаков, да и вообще русский концептуализм, понятен только русским. Когда мы делали выставку Андрея Монастырского в Венеции, нам говорили: мол, все равно он иностранцам непонятен. Но, во-первых, иностранный зритель гораздо лучше эстетически образован. Ему не надо объяснять, что такое «Черный квадрат», он на нем воспитан. А мы, к сожалению, воспитаны на советской реалистической традиции, и для нас «Черный квадрат» — до сих пор что-то непостижимое. Во-вторых, ассоциативный ряд у западного зрителя не менее вариативен, чем у нашего. Когда Кабаков на «Документе» выставил свою знаменитую инсталляцию «Туалет», многие говорили, что этого никто не поймет, потому как на Западе все чистенько. Да неправда! Там тоже есть засранные туалеты. Так же и с Борисом Михайловым: его знаменитая фотосерия с бомжами «Case History» абсолютно понятна, потому что они и за границей есть, эти бомжи. Оба эти художника имеют дело с «материально-телесным низом» — явлением, хоть и описанным в России (Бахтин), но возникшим-то на Западе (Рабле)».
Подробное исследование феномена Кабакова читайте здесь.
Смотрите также: Борис Гройс, Константин Звездочетов, Андрей Монастырский, Борис Михайлов, Роман Абрамович и Даша Жукова
1. Ханс Ульрих Обрист, куратор

По всеобщему признанию, куратор номер один в мире. Мастер придумывать новые форматы разговоров об искусстве. Способен обсуждать любые темы без перерывов на сон и еду — о чем свидетельствует нижеприведенный монолог Обриста.
Я знал, что буду куратором, с 17 лет. Да, я понимаю, что это довольно странная амбиция для подростка. Но, честное слово, в этом возрасте я уже был уверен, что буду заниматься тем, чем занимаюсь.
Однажды в Риме я в качестве студента пришел в мастерскую Алигьеро Боэтти (итальянский концептуалист, участник движения Arte Povera. — Прим. ред.). Мы разговорились, и он сказал: «Ко мне вечно приходят кураторы, галеристы, музейщики и зовут сделать выставку. Но они всегда одинаковые!» Музейные выставки, галереи, ярмарки, биеннале. Выяснилось, что Боэтти всегда мечтал сделать выставку в воздухе — на нескольких самолетах одной и той же авиакомпании. Но в рамках того арт-мира, какой тогда существовал, подобная идея казалась абсолютно несбыточной. Мне было 18. Я обратился к «Австрийским авиалиниям» — и через три года мы воплотили идею Боэтти в жизнь: на каждом самолете компании проходила его выставка. Этот случай не только расширил представление о том, что такое выставка, но еще и распространил искусство в те зоны, в которые оно не имело доступа.
Примерно тогда же в наших разговорах с Кристианом Болтански всплыла идея, что хорошо бы сделать выставку там, где ее никто никогда не делал. «Где?» — спросил я. «Да хотя бы у тебя на кухне», — ответил Болтански. И он — и еще Фишли и Вайс, с которыми я приятельствовал, — превратили кухню в моей квартире в выставочное пространство. Стало понятно, что искусство может очень интересно работать в местах, которые вроде бы для него не предназначены. Когда я уже сильно позже брал интервью у Дорис Лессинг (писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. — Прим. ред.), она сказала, что существуют не только проекты, которые кажутся нам невозможными, но и проекты, о которых мы не осмеливаемся даже подумать. Такая самоцензура. С тех пор, когда я говорю с художниками, я всегда спрашиваю: есть ли у вас в голове проекты, которые вы почему-то не можете реализовать? Меня очень интересуют неосуществленные идеи, искусство, лишенное материи.
Вспомните Марселя Дюшана. Чему он нас научил? Тому, что искусство — не только про сами работы, но и про то, как их показать так, чтобы их увидели. Если выставка не придумывает новый способ показать искусство, скорее всего, о ней быстро забудут.
Наука меня поначалу вообще не интересовала. В 1993-м меня пригласили поучаствовать в Академии третьего тысячелетия, которая тогда как раз создавалась. Ну я поехал в Мюнхен. Просидел молча несколько часов на встрече. Ничего не понял. Вернулся домой — и начал читать книги. А потом меня попросили провести экскурсию по парижскому Музею современного искусства, где я тогда работал, для нескольких нейробиологов. У нас как раз была выставка Ротко — и ученые вдруг начали объяснять мне, почему его картины воздействуют на нас именно так. Тогда я понял, что искусство с наукой и правда могут обогатить друг друга.
Каждый день я встаю в 6.30 утра, ем овсянку и пью кофе. Я даже основал общество, которое так и называется: «Жутко ранний клуб». Это такой салон XXI века — мы встречаемся с художниками, писателями, архитекторами в полседьмого утра в тех кафе, которые открыты в это время. В современных мегаполисах очень трудно импровизировать. У всех есть свое расписание, которому они должны следовать; любую встречу нужно планировать за несколько недель. Но нам нужна спонтанность. И раннее утро как раз подходит. В конце концов, в полседьмого все уже свободны.
Нельзя заставлять события происходить. Нужно создавать условия, чтобы они случались естественно. Пятнадцать лет назад мы проводили в Мюнхене симпозиум художников и ученых «Mind Revolution». Планировалось, что это будет такая конференция — ну какими они обычно бывают. Но в какой-то момент стало ясно, что это будет неправильно. Когда происходит все самое важное на абсолютно всех конференциях? Во время кофе-брейков. Так давайте сделаем один большой многодневный кофе-брейк. Так мы и поступили. В ХХ веке с выставками испробовали почти все — проводить их в пустых помещениях, в заполненных до отказа помещениях, в огромных, в крошечных — везде. Но почему-то симпозиумы как были, так и остались: утреннее заседание, обед, вечернее заседание, перерыв на кофе, конец заседания, ужин. Почему бы не изменить эти правила? Когда меняешь правила игры — меняется и сама игра.
Мне не сидится на месте. Было время, когда я с понедельника по пятницу работал в Лондоне в галерее Serpentine, а потом садился на самолет и улетал на выходные. И так каждую неделю. Мне кажется, иначе просто невозможно за всем уследить. Когда я начинал, все современное искусство было сосредоточено в нескольких точках в Европе и Америке — но сейчас ситуация изменилась кардинально. В Бразилии, Индии, Китае происходят потрясающие вещи. Можно называть это глобализацией — но важно, что национальная идентичность при этом сохраняется. И кураторы должны обеспечивать диалог между разными частями этого огромного мира. Должны следить за тем, чтобы глобализация приводила не к унификации, а к выявлению различий.
Кто такой куратор? Это катализатор. Это, если угодно, спарринг-партнер. Это человек, который строит мост от художника к публике. Важно избегать заранее написанных сценариев. Хорошие групповые выставки получаются, если они превращаются в путешествие — в том числе для их участников и для их кураторов; если ты сам не знаешь, где закончится путь.
Что я думаю о том, что меня называют самым влиятельным человеком в арт-индустрии? Понимаете, если бы не искусство — никакой индустрии не было бы. Художники все равно важнее. Я искренне считаю, что это самые главные люди на планете, и мое дело — просто помочь им.
- Роман Абрамович
- Илья Кабаков
- Марина Абрамович
- Екатерина Деготь
- Виктор Мизиано
- Интерпол
- Amazon
- The Guardian
- Константин Звездочетов
- РПЦ
- Дарья Жукова
- Эрмитаж
- Сергей Братков
- Юрий Сапрыкин
- Борис Гройс
- Эмилия Кабакова
- Айдан Салахова
- Иосиф Бакштейн
- Антон Белов
- Казимир Малевич
- Анатолий Осмоловский
- Александр Дейнека
- Юрий Лейдерман
- Алексей Пахомов
- Андрей Сильвестров
- Андрей Монастырский
- Антон Смирнский
- Аркадий Насонов
- Артур Жмиевский
- Борис Михайлов
- Даша Жукова
- Дмитрий Гутов
- Дорис Лессинг
- Кристиан Болтански
- Николас Серота
- Олег Кулик
- Ольга Кабанова
- Ольга Чернышева
- Полина Канис
- Рэм Колхас
- Хаим Сокол
- Франсуа Пино
- Яков Каждан