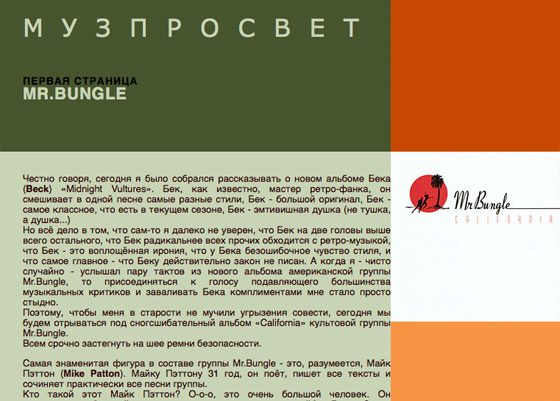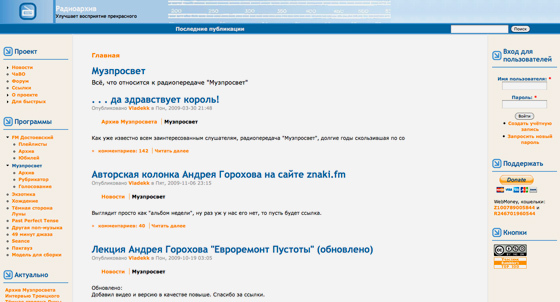Андрей Горохов и «Музпросвет»
«Афиша» продолжает рассказывать о главных феноменах российской музыкальной журналистики. На сей раз — большое интервью с Андреем Гороховым, автором передачи и книги «Музпросвет», изрядно поменявшей представления многих о том, какая бывает музыка, как ее можно слушать и понимать и как про нее писать.
что это было Возможно, самый удивительный сюжет в истории российской музыкальной журналистики. Еженедельная получасовая программа обитателя города Кельна Андрея Горохова (по изначальному призванию — художника) «Музпросвет», выходившая в эфир на мало кому нужной станции «Немецкая волна», в конце 90-х и первой половине 2000-х породила вокруг себя нешуточный культ и даже в своем роде секту — во всяком случае в иных (преимущественно виртуальных) кругах знание «гороховских» групп, теорий и словечек было паролем, отчетливо сигнализировавшим, что человек — свой. Остроумно, едко и саркастично Горохов на очень непривычном, новом для русскоязычной критики языке костерил титанов мейнстрима вроде U2, Oasis или Бьорк, обвинял весь гитарный рок в лицемерии и искусственности, не жалел ни своих, ни чужих, но главное — писал и говорил о музыке, о которой больше не рассказывал никто: от американских авангардных композиторов 60-х до новейшего немецкого минимал-техно, от индонезийской корневой этники до финских «новых странных», от AMM до Casiotone for the Painfully Alone. В своих передачах и (главным образом) в пережившей три редакции книге «Музпросвет» Горохов выстроил крайне провокационную, неоднозначную, дерзкую, но вместе с тем ужасно увлекательную и провоцирующую неистовое любопытство версию истории поп-музыки последних 50 лет — версию, в которой Kraftwerk были куда важнее The Beatles, а джангл — куда более значимым явлением, чем бритпоп. Гороховский культурный проект так или иначе манифестировал себя почти в каждой передаче, посвященной актуальным событиям, — но в конце концов очевидным образом потерпел поражение: верх взяли не безумие и одержимость, а ретроградство и переработки собственного прошлого. Занятно, что жил Горохов в Германии, и его музыкальная картина мира была, соответственно, во многом германоцентричной — результатом этого стал тот факт, что многие воспетые в «Музпросвете» группы и артисты (в диапазоне от певицы Ниобы до техно-деятеля Томаса Бринкманна) приобрели устойчивую и относительно широкую аудиторию в России. Несколько лет назад передача «Музпросвет» была закрыта, и сейчас Горохов практически не пишет; последнее издание книги тоже было явным образом финальным — но в любом случае главное уже сделано: благодаря Горохову сотни, а то и тысячи людей, многие из которых впоследствии собрали группы или стали журналистами, научились по-новому слушать музыку и думать про нее.

Андрей Горохов
автор «Музпросвета»
— Как вы вообще попали на «Немецкую волну»? Я так понимаю, ни о какой продолжительной журналистской карьере, венцом которой стал бы «Музпросвет», речи же не шло?
— Вы же знаете, что такое фрактал? Вот ты наводишь увеличительное стекло, скажем, на муравья, который кажется точкой. И ты видишь его ноги — а на них тоже можно навести увеличительное стекло и увидеть еще детали; и это бесконечный процесс. Это я к тому, что вопрос в том, откуда начинать. Скажем, чтобы устроиться на «Немецкую волну» и задурить голову тогдашнему шефу русской редакции, я показал ему две книги, изданные в России в
— А как вы там оказались?
— Я русский художник, который бросил рисовать, увидев, как на самом деле устроена арт-сцена в Германии. Кельн же в начале
«Я, вообще-то, художник, нахожусь на пути из Москвы в Амстердам, Лондон и Нью-Йорк, в Кельне ошиваюсь временно и по случайности, написал две книги по музыке, поэтому, если вам что-то нужно, я мог бы в паузе между двумя своими проектами...»
— Но ведь «Музпросвет» не из этих десятиминутных передач появился?
— Нет. Кроме прочего, Володя редактрировал передачу «Парад звезд» — она выходила раз в неделю по субботам, шла полчаса и была посвящена актуальной поп-музыке. Вел ее некий мужик по фамилии Александров, я его видел один раз. Его перлы были распечатаны и развешаны по всей редакции — что-то вроде «У Джанет Джексон не только большая грудь, но и глубокая харизма». В какой-то момент Фрадкин сказал, что редактировать и зачитывать все это у него больше нет сил, и если я готов, он пролоббирует, чтобы передачу отдали мне. Так в феврале
— То есть вы сразу сменили фокус «Парада звезд», если в первой же передаче шла речь про Джонни Роттена?
— Я сначала честно пытался делать то же самое, что раньше, но меня очень быстро понесло вбок. Я же читал, что пишут немецкие музыкальные журналы. Как они издеваются над Modern Talking, как называют The Rolling Stones «престарелыми динозаврами». Писать об этом по-другому было просто неприлично. Ну и я занялся, как сейчас я бы это назвал, троллингом. Стал троллить всех и вся, себя в том числе. Я и сам не ожидал от себя такой прыти. Наверное, после московского арт-андеграунда
О многих группах российские слушатели узнали только и исключительно благодаря Андрею Горохову, среди них — печальный и прекрасный американский увалень Оуэн Эшуорт и его проект Casiotone for the Painfully Alone
— И уничижительный разговор об общепризнанных авторитетах был осознанным приемом?
— Ну как — осознанный. Не хочется же писать какую-то пошлятину. Невозможно писать «голубая лента реки». Поэтому делаешь шаг в сторону неизбежно. От меня требовалось переписывать из популярной немецкой периодики статьи о концертах Мадонны на сколько-нибудь приличном русском языке без очевидных ляпов. Но меня, вследствие моего перфекционизма, понесло. Я ведь очень люблю все это — «я в урне родился и в урне живу, и урну свою я, как мамку, люблю» (цитата из песни группы «ДК». — Прим. ред.). Когда мне рассказывают о группе Deep Purple, я не могу не включать дурака, я просто обязан это делать.
— А ваш язык говорения о музыке — он сразу выработался?
— Вначале у меня был страх. Я писал мало. Я работал, как поэт, над каждым словом, долго обсасывал каждый придаточный оборот. Только лет через пять я научился писать бегло, не думая над каждой фразой по 10 минут. Может быть, этот период вытюкивания фраз и привел к тому, что в каждом предложении есть какое-то отступление от нормы. Не хочу, конечно, сказать, что я Андрей Платонов русской журналистики... Но вот у Платонова в «Усомнившемся Макаре» есть такая фраза: «был уволен вследствие роста задумчивости посреди всеобщего темпа труда». Она выломана в каждом слове, у нее выкручены все суставы, и вместе с тем она потрясающе емкая. То есть это многократное нарушение нормы, приводящее к невероятной точности. Я перед такого рода лингвистическими конструкциями — как кролик перед удавом.
«Я контрабандист, я пограничное явление между Германией и Россией. Я себя почти всю дорогу воспринимал в качестве переводчика, переносчика заразы»
— У вас еще был очень яркий прием, который потом много кто перенял, — говорить про музыку как про живое существо. Вот она кряхтит, ползет, передвигается какими-то неловкими шагами... Откуда это взялось?
— Это большой и интересный вопрос. Мне самому интересен мой вклад в русскую культуру. Понятно, что я со всем возможным юмором и иронией отношусь к себе. Я знаю, что я в последние годы превратился в своего самого большого плагиатора. Это проблема, потому что я просто не могу писать по-другому. Ну вот это все — «на первом плане идут два слоя ударных, слегка сдвинутые по отношению друг к другу, только крякающие тарелочки чуть-чуть вырываются из общего потока, а под них подложен электронный бас»... Это гороховщина пар экселлянс, это приговор, и вместе с тем это точное описание музыки. Я не знаю, обогатил я этим язык или отравил. Но если говорить о происхождении — нужно понимать вот что. Я не просто критик музыки, я чудовищный критик самого себя. И я себе говорю, что меня просто нет. Я контрабандист, я пограничное явление между Германией и Россией, немецким и русским языком. В немецких журналах в
Андрей Горохов не так уж часто всецело одобрял какую-либо музыку и еще реже совпадал в своих оценках с так называемой прогрессивной общественностью — но в случае американского психофолка, «новых странных» и конкретно ансамбля Sunburned Hand of the Man все сложилось самым благотворным образом
— И ваши немецкие друзья вообще не представляли себе то, что вы пишете?
— В общем, нет. Ну то есть практически все музыканты в Кельне знали, что я крутой русскоязычный музыкальный журналист, многие из них бывали в Москве, с Феликсом Кубиным мы вообще дружили. Но никто моих текстов не читал при этом. Все знали, что я вечно всем недоволен, что я дикая зануда, странный тип, не более того. Но в
— С Германией же вообще интересно. Русская музыкальная журналистика зачастую была и есть британо- и американо-ориентированная, а у вас был совсем другой фокус.
— Я, конечно, очень хорошо понимал, что я выделен, что другого такого нет. Я в
— Эл Йоргенсен.
— Да. Он, кстати, очень смешно сказал про Ministry, что это диско, пропущенное через дисторшн-бокс, я его за это и люблю. «Музпросвет» тоже можно назвать фильтром, через который пропускались разнообразные мемы и обстоятельства. Ну так вот — статья об альбоме Ministry в американском журнале Spin. И разговор идет о том, какой Йоргенсен фрик, что ему нравится, что не нравится, как он живет, какие наркотики принимает. То есть показана его психология — и это способ писания о музыке. Но немцы писали совершенно по-другому. Они гнали конструктивизм. Как музыка сделана, какой в ней есть прикол, каковы связи между различными музыкальными явлениями... Американцы пишут так: у Билли Коргана была подруга, она его бросила, он побрил голову налысо, надел майку с надписью «Zero» и записал двойной альбом «Mellon Collie and the Infinite Sadness», после чего произошел наркотический инцидент, ну и так далее. У немцев нет никакого экзистенциалистского шарма и надрыва, а есть отношение к музыке как к потоку движущейся материи. Что это за саунд, как он связан с панк-молотилкой, с гранжем, с индастриалом; такой взгляд патологоанатома с высоты птичьего полета. И мне он очень импонирует, потому что — ну ты не можешь стать Билли Корганом, какая тебе разница, покинула его подруга или не покинула?! То есть понятно какая, понятно, что Билли Корган превращается в литературного героя, в такого брата Карамазова, но все равно — сам-то ты не брат Карамазов. Тебе-то что от этого, ты что, должен слюни пускать, что в Америке живет такой классный брат Билли? Музыка не сводится к душевной боли персонажа, который перед смертью у бездны на краю кричит пару слов, и это оказывается классным инди-роком. Это миф, один из многих. Собственно, к концу
«Я обещал культовую передачу. Я хотел ее делать. Это была моя внутренняя задача — если уж я с этим связался, я вытащу бегемота из болота»
— Раз уж вас пытались уволить за передачу про Мэрилина Мэнсона, не могу не спросить, как вообще на «Музпросвет» реагировало начальство. С одной стороны, им наверняка это все казалось диким; с другой — очевидно ведь, что изрядное количество людей знали о «Немецкой волне» только благодаря вам, что «Музпросвет» в какой-то момент стал брендом.
— У меня есть масса анекдотов про начальство, но дело не в этом. Слова «бренд» никто тогда не знал. Я обещал культовую передачу. Я хотел ее делать. Это была моя внутренняя задача — если уж я с этим связался, я вытащу бегемота из болота. Я помню, как я в
Важная часть просветительской деятельности Андрея Горохова, которая почти не нашла отражения в книге «Музпросвет», — множество передач про самую разнообразную корневую этническую музыку, которую автор программ, как правило, ставил выше примерно любых актуальных нововведений
— Интересно при этом, что слушатели и читатели-то вполне воспринимали вас как Ломоносова. Мне еще всегда казалось, что такая влиятельность «Музпросвета» отчасти была связана с тем, что распространялся он в основном по интернету, а интернет в конце
— Я забыл сказать одну важную вещь. У меня постоянно был дикий страх, что меня уволят. Я был после каждой передачи уверен, что меня выгонят, — там было достаточно для этого криминала. Я первым на «Немецкой волне» произнес слово «аборт» в эфире, я перевел фразу Дитера Болена про Томаса Андерса: пусть он вставит палец себе в задний проход и кричит ку-ка-ре-ку. Ну и так далее. Поэтому мне был дико важен фидбэк. Мне было важно наличие сайта, я стал писать книгу, чтобы был какой-то отклик из России. То есть я хотел стать знаменитым, чтобы сохранить работу. Может быть, из-за писем, из-за сайта, из-за книги меня так долго и не выгоняли, не знаю. В интернет я вышел, чтобы за что-то зацепиться. С книгой тоже была долгая сложная история. Радиослушатели всегда требовали мои тексты, сначала я высылал их просто в письмах, а потом они стали сливаться в одну непрерывную историю. В
— Вы ведь в книге, по сути, предложили собственную верcию истории популярной музыки — крайне неортодоксальную. И это чуть ли не единственный в русскоязычной музыкальной журналистике такой прецедент — создания полноценного авторского проекта истории поп-музыки. Вы сами себе формулировали задачу его придумать?
— Я как раз недавно в Донецке читал лекцию про три истории популярной музыки. Одна — самоочевидная: блюз, Элвис Пресли, The Beatles, Led Zeppelin, ABBA, Pink Floyd, Depeche Mode, Бьорк. Другая — немного регги, немного фанка, Kraftwerk, диско, хаус, техно, индастриал, джангл, драм-н-бейс, и кончается все IDM. И третья — это история журнала The Wire: Джон Кейдж, The Velvet Underground, немецкий краутрок, фри-джаз, Сан Ра, опять же индастриал, импровизационная музыка Дерека Бейли, электроакустика Пьера Анри, ну и так далее. То есть — стандартная рок-энциклопедия
— Что-то я запутался.
— В общем, из этого родился мой любимый образ о скрытом поединке гигантов. Это и есть идея «Музпросвета»: идея третьей истории музыки, которой движет представление о саунде. И в этом представлении все время присутствуют Джон Кейдж и Штокхаузен. Есть два противоположных подхода, инь и ян, черное и белое, совершено два разных взгляда на вещи. Из-за конфликта Джона Кейджа со Штокхаузеном, которое было эхом размазано и отражено много раз, и возникло все многообразие приличной музыки, а она в свою очередь расшатала этот бесконечный занудливый рок-н-ролл, и получалась танцевальная музыка, индастриал, получилось вообще все. Но в корне лежит фигура Джона Кейджа и его конфликт со Штокхаузеном. Я стал копать эту тему, покупать и брать в библиотеке книги. Выяснилось, что немецкие авангардисты в
Надо, впрочем, сказать, что в «Музпросвете» речь все-таки чаще шла не о конфликте Кейджа и Штокхаузена, а о противостоянии Autechre и Oval, которое Горохов сам выдумал и в котором он был на стороне последних
— При этом цельность вашего проекта в итоге, кажется, сыграла против него. То есть у вас было очень четкое представление о том, в какую сторону должна развиваться музыка, — только вышло по-другому. Если вы, конечно, понимаете, о чем я.
— Я отлично понимаю, о чем вы. Я на протяжении 10 лет говорил об этом в каждой своей передаче. У меня есть ощущение — и я нисколько не сомневаюсь, что так было на самом деле, — что существовал некий, скажем так, факел авангарда, который передавался от одной группе к другой. Все они были связаны друг с другом. Скажем, кельнская сцена была связана с европейской кассетной культурой, частью которой был, например, Nurse With Wound. Франк Доммерт, который потом всплыл в виде лейбла Sonig и магазина A-Musik, принимал живейшее участие в этой подпольной дистрибуции. Он был знаком с Джимом О’Рурком. Я в A-Musik стоял плечом к плечу с Дэвидом Тибетом. В общем, это все близкие друг другу люди, которые создавали некоторый консенсус внутри тусовки. И этот импульс консенсуса, импульс очевидности в сфере самых высоких претензий — он ими дальше и передавался. До конца
Характерное мелкое свидетельство влияния Андрея Горохова на умы — по всей видимости, именно с его легкой руки музыканта Burial здесь многие стали называть «Бьюриалом» (вопреки реальной транскрипции)
— Ну а у вас самого не возникала гипотеза, что вас не будоражит ничего нового просто из-за возраста? По чисто физиологическим причинам?
— Тема моей старости меня занимает, да. Еще меня занимает вот какая тема: что я ругаю Depeche Mode, Бьорк и Radiohead, потому что я их пережрал. Слишком много слушал. Тут вот какое дело — я много музыки слышал, но если говорить практически, я эту музыку слушал невнимательно. Я ни одной песни Radiohead не дослушал до конца. Да что там — я и ни одного альбома Oval до конца не слышал. Моя задача была — сделать охренительно культовую передачу, которая не лезет ни в одни ворота и несет свет разума, истины и прикола своим соотечественникам. Я слушал ровно столько, сколько нужно для вынесения компетентного суждения, от которого у радиослушателя падает челюсть. Так что я этой музыкой не обжирался. Но челюсть у меня от нее уже, конечно, сводит. Такой момент есть.
— То есть «Музпросвет» кончился, только потому что его закрыло начальство «Немецкой волны»?
— Ну я думаю, что если бы мне платили деньги, я бы его и дальше делал. Хотя я считал, что он морально устарел, конечно. Ну, начал бы делать другую передачу, вовсе необязательно о музыке — я вот сейчас документальным кино увлекся, буквально фриком стал. А что касается музыки — ну у меня есть несколько шкафов, где она лежит. Там уже только пленки, я три раза переезжал, в том числе из Кельна в Берлин, и выбросил своими руками горы книг, компактов, винила. Никакой поп-музыки не оставил вообще, один авангард, этника, фри-джаз, немного барочных опер. И мне все равно тяжело это слушать. Я ставлю, скажем, индонезийскую музыку, настоящее хардкор-этно, и мне немножечко неловко — я ее еще не начал понимать, но уже начал узнавать; это как если с тобой рядом все время ходит китаец, и он уже задолбал тебя со своей жестикуляцией и речью, ты не знаешь, что он говорит, но ты видел это уже много раз, и тебе неинтересно на это смотреть. Я вчера поставил Майлза Дэвиса начала
— И ни за чем не следите? Ничего не интригует? Ничего не интересно?
— Могу рассказать анекдот. Я являюсь идейным вдохновителем нового движения в искусстве, оно называется «Донецкое документальное кино». Я был в Донецке, мы там снимали. И вот мы приходим в квартиру к одному мальчику-архитектору, молодому парню, отличному человеку, 22 года ему, снимает авангардное видео, — и в его квартире играет музыка: девушка по-английски что-то очень тоненьким голосом поет под даунтемпо. Я не знаю, что это за группа, но помню, что вроде бы в конце
— То есть музыка интересна в антропологическом ключе?
— Нет, она не интересна. Я ее вижу как антропологический объект, по-другому я не понимаю, как к этому относиться. Когда ты говоришь слово «антропология», у тебя появляется возможность заиметь некоторую дистанцию, отстраниться от чего-то, как кинодокументалист защищается камерой. Когда ты защищен объективом, ты можешь уже на этот объект смотреть, потому что смотреть на него вплотную, принимать в нем участие — это абсолютно невыносимо.
Если кому-то вдруг не хватило слов, сказанных Андреем Гороховым, в этом ролике их еще на полтора часа