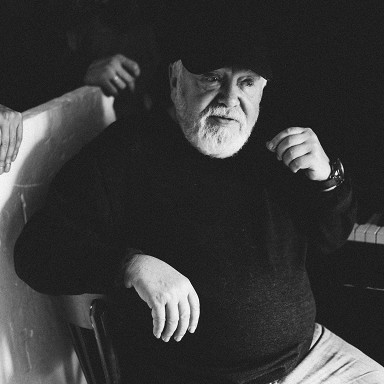— Загадочная история: [ваши фильмы идут двумя копиями], хотя залы-то в итоге полные — почему не сделать вместо двух хотя бы десять?
— Я не обижаюсь и не чувствую себя отверженным художником в конфронтации с пошлым миром. У «Анны» и «Ассы» вообще какая‑то магическая судьба. Например, в критический момент, когда у нас было очень много отснятого материала, который катастрофически некуда было девать, материализовался Костя Эрнст и попросил сделать из этого пятисерийный вариант для телевидения. Потом все устаканилось, но Эрнст не стал возникать, а сказал, что его вложение остается в силе и через год после широкого проката он покажет сериал. Сериал существует, я от него открещиваться не собираюсь; только любая экранизация — это процесс перевода. И в фильме роман переведен свободным белым стихом, а в пятисерийном варианте — изобразительной прозой.
— Вы же «Анну Каренину», по-моему, лет десять пытались снять.
— Ну да. Но сняли, на самом деле, за два месяца. А десять лет была муть с финансированием. Не то чтобы мы хотели ее снять, а злой рок и низкий социальный уровень нашей родины не давали нам этого сделать, но дефолтов было — как грязи, и мы попадали в любую финансовую лажу. «Анна Каренина» была первой картиной, которую постоянно закрывали, поэтому и чувство такое, что все это происки высших сил. С этого и началась вторая «Асса» — в какой‑то бесчисленный раз закрыли «Каренину», а было уже много снято. Мне не хотелось, чтобы материал пропал, и я сел писать другой сценарий, чтобы спасти «Каренину».
— И «Асса» получилась мрачнейшиим высказыванием на тему того, что ничему светлому и простому — такому, как «Анна Каренина», — на самом деле жизни нет.
— Это очень важно — в «Анне Карениной» тоже ужасная история: всех она продала, под поезд бросилась, детей оставила, кошмар. А ощущение жутко светлое. Потому что это люди, а не уроды. А во второй «Ассе» — абсолютная, тотальная победа Крымова.
Слава богу, мы так не сделали. Это был бы ничем не оправданный романтизм, потому что все получилось прямо наоборот.
— То есть двадцать лет назад вы все-таки надеялись, что Крымов не победит?
— Я не надеялся, я твердо знал, что у Крымова никаких шансов на победу нет и быть не может. Я ему всячески внутренне симпатизировал — вечерний самовар там, Пушкин, Онегин. Он не злодей, но урло с интонацией победителя. Но вот что сделаешь. К тому же жизнь показала, что с песней «Хочу перемен» очень подозрительная история. Потому что я сам махал руками в той десятитысячной толпе в парке Горького. И вот в этой толпе — я готов дать расписку кровью — ни один не знал, каких именно перемен он хочет, и ни один по-настоящему их не хотел. Получилось так, что я с первой «Ассой», верьте или нет, послужил таким козлом-провокатором. То есть непростое, конечно, дело орать: «Перемен!», — не зная, чего именно ты хочешь. Тем более что перемены в итоге произошли, но они — всецело достояние Кадышевой.
— Какая‑то совсем неутешительная картина складывается.
— Ну не совсем. Вот недавно мне из Питера звонит художник, который на «Ассе-2» работал. «Я сейчас хочу пойти в «Аврору» на «Ассу». Я говорю: «Ты что, сдурел?» — «Ну, я собрал приятелей, хочу с ними пойти. У вас никаких просьб нет?» — «Какие просьбы? Хотя скажи, что «Асса» должна обязательно идти не на стандарте, а раздражающе громко, чтобы возникло ощущение рок-концерта и звукового хаоса». Потом он опять звонит. «Ну чего, громко?» — «Я не знаю…» — «Я же просил узнать!» — «Я не знаю, я так плакал…» — «Что ты мелешь? Чего ты плакал?» — «Так их жалко всех…» — «Слышь, старик, ты давай, у меня есть в Питере хорошие знакомые психиатры, это раздрызганность нервной системы называется». — «Всех жалко, ужасно. И всего». — «Ну хоть громко было?» — «По-моему, нет».
— Там же, наоборот, как раз про то, что никого и ничего не жалко.
— Вот именно, а возникают и такие случаи, и объяснения у меня им нет. Только одно объяснение — победе Крымовых, проблемам с прокатом, всему вообще, что в мире происходит. Позавчера ночью позвонил Сережа Шнуров в четыре часа утра. «Хочешь, прочитаю свое последнее стихотворение?» — «Ну давай». Четыре часа утра! Я вообще не понимаю, что происходит. И он мне читает:
«Стас Михайлов, Жанна Фриске,
В манной каше две сосиски.
В «жигулях» — литые диски.
Очень любит наш народ
Всякое говно».
— Так это у «Гражданской обороны» уже, кажется, было.
— Да? Но даже если так, Шнуров все равно гениальный поэт и совсем не такой, как Летов, или Боря Гребенщиков, или Цой. Это божественная поэзия, она объединяет Чуковского и японские хокку. И если кто‑то плачет оттого, что наш народ очень любит говно, значит, не все еще пропало.
— Вы сами не думали, как так получилось, что ваш фильм с героями двадцатилетней давности говорит о современности больше, чем то, что сейчас снимают молодые режиссеры?
— Вот у меня есть история. Ходил в гости к Тане Друбич. Смотрю, в кустах стоит какой‑то памятник. Захожу в кусты, оказывается, памятник — Блоку. В его основании — куб. Два часа ночи, зима, золотой снег, волшебная картина. А за Блоком стоит молодой парень, мочится на куб и свистит. И мне даже легче стало — вот они какие, твари! И забыл про это. Недавно еду опять мимо, смотрю, человек 25 гужуются у Блока. Я остановился, вылез, подхожу туда. Сидят, как во ВГИКе на перерыве, и какой‑то человек читает Блока, а все слушают. Я тоже присел, и тут до меня доперло, что рядом с нашей жизнью всегда есть другая, нормальная, параллельная жизнь. Она очень сильная, там никто не мочится на Блока, нет категорий «жизнь ужасна, жизнь прекрасна» и не надо никому объяснять, что происходит вокруг.
И вторая история. Мой бывший студент однажды принес мне авоську, а в ней два здоровенных тома. Написано: «Антология русского стиха XX века». Я так перепугался, говорю, не буду это читать, чего я там не знаю. И вот, выставляя эти книги на полку, я их пролистал. Никого не знаю. Год — 1972-й. Как же так? Я жил в 1972-м, все знаю, что было. Эти два тома — стенограммы параллельной жизни. Она была тогда, она есть сейчас, она будет всегда, только мы о ней не знаем.
— То есть надежда есть?
— Нет никакой надежды. Я не верю ни в какие движения общественной жизни, мне все равно, кого завтра выберут, хоть нашего охранника из кооператива. Потому что вся настоящая жизнь проистекает среди очень малого количества людей. Самая совершенная общественная организация — семья, менее совершенная — отношения мужчины и женщины. Вы в каком союзе кинематографистов? Я — в том, в котором были Феллини с Джульеттой Мазиной и Антониони с Моникой Витти. И у нас-то как раз все нормально.
19 июля 2011 года
***
— Какая прокатная судьба ждет фильм «Ке-ды»?
— Ну какая может быть прокатная судьба в стране, где нет проката? Ну это же не прокат — то, что у нас есть. Это прокат отдельных картин. Понимаете, я не большой поклонник советской власти, но я довольно долго работал при ней. Первая категория — 5000 копий, вторая категория — 2500 копий, третья категория — 1500 копий. Ясно, что они получают в руки все это количество копий и должны были оправдать государственные затраты даже на печать этих копий. Но они все равно подхимичивали и прокатывали какую‑нибудь «Анджелику — маркизу ангелов», с тем чтобы выполнить план. Ради бога, все правильно.
Существовала индустрия производства и проката фильмов. Первого января на киностудию «Мосфильм» поступали все деньги на еще не снятые фильмы. И весь механизм — он еще кормил учителей, юристов, еще не помню кого — приносил колоссальный доход. Плюс к тому что он еще полностью содержал всю кинематографию. Мы ее ругали очень — я выступал на каких‑то совещаниях, говорил, что это издевательство, отсутствие любви к живому зрителю, полное непонимание рыночных интересов, которые обеспечат нормальное, гармоничное развитие проката, и только когда у нас в одном кинотеатре будет показываться Антониони, в другом — Феллини, в третьем — Бергман, в четвертом — кто‑то из только что снявших кинокартины, только тогда мы увидим живую реакцию живого зрителя.
Мне очень нравится режиссер Лебедев, он последний остров того, что «Как нет проката? А Лебедев с „Экипажем“?». Я очень рад за «Экипаж», за Сашу Митту, но проката — я все-таки утверждаю, что нет. Поэтому как сложится прокатная судьба фильма «Ке-ды»? Думаю, что хреново.
— Советское кино тоже было в основном ориентировано на массового зрителя.
— Конечно. Но советское кино было ориентировано прежде всего на гениев и невероятных талантов, которые обеспечат ему мировую славу. Это чисто разорительный процесс. Для того чтобы этот разорительный процесс не приобрел кошмарные, разрушительные свойства, нужно было все время держать в полном порядке так называемое кино массового зрителя. Иоселиани существовал на деньги Гайдая, и Гайдай не обижался, а очень даже радовался. Существовала негласная этическая договоренность. Не со зла же Тарковский снимал «Зеркало», чтобы разорить кого‑то, — он не умел по-другому. И Гайдай тоже не умел по-другому. И они балансировали интересно, и получалась общая экономическая гармония инфраструктур.
— А в мировом кино было что‑то в последнее время, что вас особенно поразило?
— Ничего, что так бы впечатляло, как Антониони или как «8 ½», — такого уровня переживаний нет. Ну вот, например, у Ларса фон Триера встречаются хорошие картины, иногда там камера как‑то замечательно стоит. Но это уровень другой. Я смотрю и думаю: «Ну ты молодец, Ларс фон Триер!» К Антониони у меня такого отношения бы никогда не возникло. А тут — ну чего, хорошо все, ты продолжай, Ларс фон Триер, у тебя способности есть.
<…>
Гениально мне говорил Шварц: «Никогда не стесняйся тырить в собственное творчество, что плохо лежит или даже хорошо лежит, потому что ты же художник, а у художников как все устроено? У других это «украл», а у нас это называется совсем по-другому — «недостаточно преодоленное восхищение». Поэтому я от души пользуюсь этой терминологией.
Мне очень смешно, когда меня спрашивают: «Вот вам Бог дал пережить столько поколений и с ними общаться. Как они изменились? Что это такое — новое поколение?» Да никак они не изменились. И никаких новых поколений нету. Это все то же самое — абсолютно, под копирку то же самое. Ну вот гаджеты, ну вот вы сидите и смотрите не только на меня, а еще и на компьютер, ну вот компьютер сломается — мы его закроем и будем продолжать все как есть.
Если спросить, чем отличается хороший человек сегодняшнего дня от хорошего человека 1962 года, когда я поступил во ВГИК, — ничем, это я вам просто гарантирую. Это удобная выдумка. Вся эта игра в поколения — очень удобно. И там и там были люди, а были — козлы. Ну и все.
<…>
Я вам уже говорил, что я антиконцептуалист до озверения. Почему? Потому что на любую концепцию есть антиконцепция, которая может бороться с концепцией. А вот то, что она движется по какому‑то закону, от нас не зависящему, — жизнь. Я со своими студентами ставил два года назад «Войну и мир» целиком, спектакль. А ведь история та же самая. Та же самая! У меня, знаете, сознание немного детское. Конечно, лекало — говно, но все-таки лекало. Все-таки что‑то нами управляет. Конечно, говно, конечно, куда ни повернешь, везде какая‑то лажа. Но все-таки лекало. Все-таки не блуждаешь.
— А как от этой лажи-то спасаться?
— Не надо ничего делать. Все сделается так, как сделается. Ну действительно, ничего предпринять нельзя. Причем я довольно хитроумный джентльмен: когда я вижу, что игровая ситуация такая, что можно перепаснуть налево, потом направо, потом получить пас и вдарить, я все это понимаю. Я не то чтобы расслабленный такой долбак — «как случится, так случится». Нет, в результате многоходовых комбинаций я говорю со всей ответственностью, что делать ничего не надо. Ничего не получится, кроме того, что уже получилось. Самое главное — нужно ценить то, что получилось. Мы мечтали о таких детях, что ли? Нет, конечно. Это наши дети, их нельзя сдавать в детский дом. С ними нужно прожить остаток жизни, сделать все, что возможно сделать. Причем без всякой жертвенности. Следуя за лекалом.
— У вас почти все фильмы о том, что настоящая жизнь проистекает между двумя людьми, а все остальное — это стыд и ужас. И надо в этом стыде и ужасе как‑то сохранить себя, но лучше просто не связываться.
— Да, но стыд и ужас — он не требует воздействия. Это стыд и ужас, вызванный непониманием того, что на самом деле происходит между двумя людьми. Вот в чем дело. Нужно как‑то… Пусть малый, но симфонический оркестр. Все должно быть сгармонизировано. А тут двое вроде как играют, а все остальные не в пень колоду. Я боюсь употреблять слово «любовь», потому что столько гадости связано с этой самой любовью, но, в принципе, если говорить о любви, то да, она сильнее окружающей реальности. Вокруг нее даже не страх и ужас, а диссонансище — как будто или оркестранты идиоты, или ноты потеряли. Ощущение потерянной партитуры. А двое знают наизусть.
7 июля 2016 года