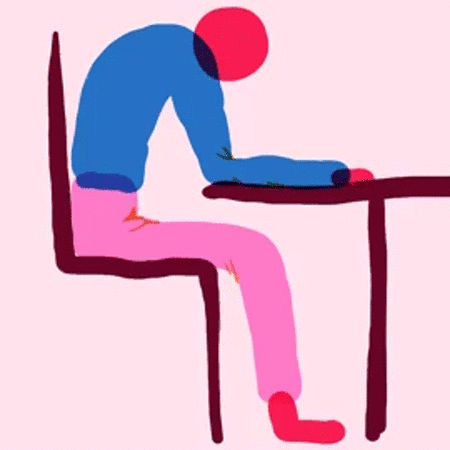«Умри — но не ходи к психиатру»
В детстве я часто просыпалась по ночам, и мне казалось, что я сижу в коробке. Возникало чувство клаустрофобии в теле, я начинала бегать, рыдать. Это происходило только ночью и время от времени. Уже во взрослом возрасте я поняла, что это было похоже на деперсонализацию и дереализацию. При деперсонализации ты не ощущаешь себя, и у меня были моменты, когда я не узнавала свои руки. При дереализации меняется среда, категории предметов, замедляются или ускоряются звуки. Мир кажется другим — например, становится похожим на фотографию или на декорацию. Но это не психотическое состояние бреда: с одной стороны, ты все понимаешь, но с другой — не понимаешь. Это очень трудно поддается вербализации. Лично у меня все это сопровождалось ужасной паникой — тянущей, тяжелой.
С 18 лет начались настоящие дереализации, они были мощными и длились иногда по 10 часов. Это повторялось каждый день на протяжении полугода. Я просыпалась, и сначала мне казалось, что все нормально, но через какое-то время организм как будто вспоминал: надо включить дереализацию. Она могла спровоцироваться чем угодно. Однажды я ехала в автобусе и увидела рекламный щит, на котором было изображено пустое поле с ракетой посередине. Картинка вызвала у меня мощнейший дереал, который длился несколько дней и сопровождался ужасной паникой. Тогда же у меня начала оформляться странная идея, что за спиной не должно быть пустого пространства, поэтому надо, например, ходить, прижимаясь к стене.
Порой мне казалось, что все предметы как бы смотрят на меня, — и сразу же включалась клаустрофобия в теле, мне хотелось из него выйти. В какой-то момент я стала понимать, что это не норма, думала, что это панические атаки. Я говорила об этом близким, но еще в семье была очень нехорошая история про психиатрию и одну нашу родственницу, поэтому моя мама все время говорила: «Ты что, хочешь быть как она?». У многих есть ощущение, что психиатрия — это карательный аппарат, который непременно сминает и уничтожает человека. Умри — но не ходи к психиатру.

Потом все прошло — так бывает. Это просто было продромальное состояние (первые симптомы перед острой фазой. — Прим. ред.). Продром может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, поэтому часто остается незамеченным. Так было и у меня. Патологические состояния то появлялись, то уходили. Каким-то образом я к ним приспособилась. Больше всего я боялась дереализаций и деперсонализаций, а к навязчивым состояниям, например, я привыкла — главным образом потому, что не понимала, что такого не должно быть.
«Я чувствовала, как мир становится другим»
Я переехала жить в Петербург, начала работать в клубе. Были долгие бессонные ночи, алкоголь. В 25 лет я начала конкретно съезжать: меня постоянно охватывали странные мысли, паранойя. Однажды я увидела двух мух у себя в комнате, и это разрослось до абсолютного убеждения, что где-то в комнате есть гнездо опарышей и я умру, если увижу его. В такие моменты меня трясло от ужаса. Я стала еще больше выпивать, потому что мне все время было очень странно: я чувствовала, как все меняется, мир становится другим, звуки искажаются. Запоев не было, но я могла выпить небольшую бутылочку коньяка, чтобы расслабиться и уснуть. Это очень плохой цикл. Дофаминовая яма, которая часто возникает во время похмелья, сильно провоцирует разные психотические вещи.
Однажды я спала весь день, проснулась поздно вечером, успела что-то сделать по работе. А дальше все начало меняться, шевелиться — например, странно себя вел диван. Мне показалось, что у меня отнялись ноги, случился сердечный приступ, я начала слышать какие-то звуки. Я вспомнила, как до этого ела рис, и вдруг поняла, что он похож на опарышей. Меня охватила ужасная паника, я выбросила оставшийся рис, стала рыдать, меня трясло — я была уверена, что наелась червей. Я ползала по углам и искала, где они прячутся.
Я позвонила подруге и начала все это рассказывать. Она поняла, что я не вполне адекватна, и вызвала врача. Скорой она сказала, что у меня сердечный приступ, так как не хотела, чтобы меня забрали сразу в дурку. Бригада, которая приехала ко мне, поняла, что никакого сердечного приступа нет, — я нарезала круги по комнате и говорила, что у меня отнялись ноги. Они меня успокоили и сделали укол с феназепамом (транквилизатор, принимается только по назначению врача. — Прим. ред.). Сказали, что мне надо ехать домой, в Москву. Когда меня начал отпускать страх, я позвонила маме, она купила билет. Утром все начало возвращаться, но я уже ехала в поезде. Мама встретила меня и отвезла в больницу.
«Психиатрия не рассматривает пациентов как клиентов»
Врачи долго не могли понять, чем я больна. Сначала мне поставили биполярное аффективное расстройство плюс тревожное и фобическое. А потом началось путешествие, которое длилось пять лет: от шизотипического расстройства до диагноза «параноидная шизофрения». У меня было несколько психозов, поэтому симптомы постоянно добавлялись. Например, появилась дисморфофобия, на почве которой развился бред. Я начала считать, что очень толстая, перетягивала себя ремнем, перестала себя трогать, не мылась. Это началось два года назад, и за один год у меня было несколько госпитализаций.
Я не совсем согласна с тем, что у меня параноидная шизофрения. Думаю, это непонятное расстройство шизоспектра. Например, у меня были голоса, которые встречаются при шизофрении, но они никогда не были императивными (не говорили, что делать. — Прим. ред.). Они могли сказать: «Христианство нужно переименовать в «христаинство», потому что это таинство воскрешения Христа». Голоса занимались шизофреническим словоконструированием. Их у меня нет уже очень давно, хотя если я сильно перенапрягаюсь, могу что-то услышать. Меня пугает не это, а изменение реальности и зацикленность на какой-то мысли — из этого раскручивается полубредовое состояние, когда я могу говорить только об этом, вся жизнь подчинена этому. При дисморфофобии, например, я зациклена на том, как мыться и спать, чтобы не трогать себя за какие-то части тела.
Наша психиатрия не рассматривает пациентов как клиентов. Она построена так, что зачастую людям даже не сообщают их диагноз. Мне его всегда называли, но я знаю многих, кому не говорили вообще ничего, в том числе наименования лекарств, которые они пили в стационаре. В основном мне попадались нормальные врачи, хотя не могу сказать, что все они были фантастически профессиональными.
Однажды я отказалась от госпитализации, потому что мне попался некомпетентный врач. Тогда был приступ — целый хор голосов в голове, — я испугалась и сама вызвала помощь. В больнице была женщина-доктор, которая сказала, что у меня нет критики к своему состоянию (то есть способности осознавать болезнь. — Прим. ред.), так как у меня татуировки на кистях, — соответственно, я тяжело больна. Я ответила, что это довольно устаревший критерий оценки состояния, и она сказала: «Видите, у вас нет критики». Врач со мной даже не пообщалась, а сделала вывод, основываясь на книжках 60-х годов, когда татуировки на теле женщины действительно были свидетельством ее маргинализации. Профессионал всегда спрашивает, из какой ты среды, старается понять эту среду и уже потом пробует сделать вывод. Кстати, часто, если в 30 лет у тебя нет детей и мужа, это рассматривается как признак патологического развития личности.
Сейчас у меня отличный врач — он мне очень помог, правильно подобрал таблетки, мне с ним всегда комфортно общаться. Он совершенно спокойно обо всем говорит. Однажды сказал маме: «Ну и что? Много кто шубанул, а потом все нормально». Мама вышла с недоумением на лице и спросила: «Слушай, а что значит «Гоголь шубанул»?» «Шуб» — это в переводе с немецкого «приступ», многие смеются над словосочетанием «шубообразная шизофрения». Мой врач ратует за западную модель работы с клиентом, когда сообща действуют психотерапевт и психиатр. Я вообще не идеальный пациент: часто бросаю таблетки, иногда выпиваю алкоголь, много курю, пью много кофе. Из-за этого врач говорит, что я не регулярна, поэтому мне нужна психотерапия, а лично он — человек, который только прописывает таблетки.
«Я вообще не poster girl для шизофрении»
Есть не очень толерантный психиатрический термин — «дефект». Он обозначает необратимые личностные изменения, которые происходят в результате схизиса (нарушение целостности психики. — Прим. ред.). Считается, что у резко развивающихся форм шизофрении (например, юношеской) быстро наступает состояние конечного дефекта — необратимый распад, амбивалентность, апатия, абулия (патологическое отсутствие воли. — Прим. ред.). Такие люди могут производить впечатление людей с умственной отсталостью, хотя на самом деле это просто сильный распад мышления. У человека появляется сильная разорванность речи, потому что его ассоциативные ряды становятся парадоксальными, и выдает он начало умозаключения и конец, а как он все соединил, не рассказывает. Получается словесный салат.
В тот год, когда у меня было три госпитализации подряд, случилась супертяжелая депрессия. Я лежала на кровати, не мылась, целыми днями ела KFC. Мы с мамой ходили к врачам, которые говорили ей, что наступает дефект, ведь я не могла ни читать, ни писать. Тогда я и сама думала, что это так. Есть много похожих состояний: например, то, что кажется дефектом, может быть побочным эффектом от нейролептиков. Психиатры считают, что при болезни обязательно должны происходить изменения личности, хотя это не всегда так, потому что есть вариативность.
Вариативность — это, мне кажется, то, что также должны доносить психоактивисты. Я, например, вообще не poster girl для шизофрении, потому что я супервысокофункциональная. Но есть и другие. Вопрос в том, почему все это случилось: неправильно подобрали лекарства, проглядели или просто была такая ядерная форма заболевания, что на своем пути она выжгла все.
«Моя самоидентификация вообще никак не связана с физическим телом»
Я с самого начала жила открыто с диагнозом — видимо, потому что у меня с детства было какое-то стремление к маргинализации. В мультфильмах часто наказывали кого-то плохого, и однажды, лет в пять, я собрала вещи и начала орать, что я плохая, я ухожу, — мне почему-то очень не нравились всякие самодовольные пионеры. Лет в 15 я решала вопрос, можно ли отринуть мораль по-ницшеански, и поэтому пыталась разбить окно в обменнике. Как видите, вопрос добра и зла стоял остро. Короче, в моей голове шизофрения — это не некрутое. Если меня будут считать не совсем нормальной, мне будет все равно. Когда я делала стримы, многие писали, мол, как круто, что ты об этом говоришь, это же так тяжело. Но мне вообще не тяжело — для меня это все равно что сказать, что у меня темные волосы.
В то же время нельзя обвинять других людей в том, что они не совершают каминг-аут (то есть не живут открыто с диагнозом. — Прим. ред.). Мне повезло: одной ногой я нахожусь в арт-среде, другой — в среде, которая суперпозитивно настроена к моим психическим особенностям. Я никогда не могу потерять свою работу из-за диагноза. Я поставлена в очень выгодное положение, институционально на меня ничто не давит. Другое дело, если в каком-нибудь офисе узнают о биполярке Петра, и с этого момента люди начнут воспринимать все, что он делает, через призму этого диагноза.
Много лет я занимаюсь синхронным переводом с английского в сфере психиатрии. Очень долго работаю с «Центром проблем аутизма». В это комьюнити меня привела Екатерина Мень (журналистка, директор «Центра проблем аутизма». — Прим. ред.), с которой я познакомилась случайно. Я прошла обучение на младшего тераписта у американцев по интернету, стала работать там как терапист-поведенщик: занималась прикладным анализом поведения и работала непосредственно с аутичными детьми. Сейчас я уже не могу работать терапистом, потому что прошло много времени, а там надо постоянно повышать квалификацию. Но я сертифицирована по альтернативной коммуникации для аутистов PECSВспомогательный метод коммуникации для детей с особенностями речевого развития, специальный протокол обучения с помощью изображений.. Раньше я работала с этой системой как переводчик, но последние три года выступаю как соведущая в паре. Недавно мы стали выезжать в страны СНГ. В этом сообществе все изначально знали о моем диагнозе, и это никогда не было каким-то препятствием.

На самом деле моя самоидентификация вообще никак не связана с физическим телом. Для себя я — не Саша, не женщина, не феминистка, не россиянка. Моя самоидентификация — это над-эго, которое не имеет никаких этих категорий. Ничто из того, что составляет меня как физическое воплощение Саши, мне не интересно. Но мне очень интересно заниматься любым искусством — например, писать музыку, я хотела бы делать это чаще. Сначала я сама, независимо, писала треки, потом мы выпустили альбом на лейбле. Все это мне очень нравится, сейчас мы делаем второй альбом, хотя лично я пишу как бы уже третий. Мне очень симпатичны перформансистские штуки, потому что я люблю концептуализм, мне нравится придумывать концепты — и делаю я это хорошо. Меня это очень возбуждает в хорошем, умственном смысле. Когда я на чем-то мешаюсь, это большое счастье.
В то же время для меня важно, что у меня есть диагноз и я могу об этом говорить. Я умею оказывать влияние на людей — было бы тупо этим не пользоваться. Иногда мне жаль, что я не испытываю страданий, не превозмогаю себя. Но я не могу сказать, что шизофрения для меня морально тяжела. Для меня она очень обыденна и очень интересна.
«Я занималась самобичеванием при зрителях»
Однажды мне написала Катя (художница и активистка Катрин Ненашева. — Прим. ред.) и предложила поучаствовать в проекте «Я горю». Раньше мы не были знакомы. Я согласилась, хотя тогда еще не понимала, что конкретно хочу делать. Когда мы встретились, стало понятно, что это будет перформативный акт. Изначально это предназначалось для художников и музыкантов, но в итоге там были люди не только из арт-среды. Мое глубокое убеждение в том, что элитарность — это говно.
Я сильно сконцентрирована на идее каких-то дискомфортных работ — меня всегда интересовало, что происходит с людьми, которые телесно вовлекают себя в практики (как ранние работы Абрамович). И меня всегда увлекала мысль превращения себя в арт-объект. Мне не нравится история про постмодерн и ироничного демиурга-трикстера, который смотрит сверху и ставит в неудобное положение зрителей, но только не себя. Мне кажется, метафизическое выражено в том, чтобы ты сливался с продуктом своего искусства и этот продукт мог тебя подмять и испортить. Это мое личное убеждение, я не хочу его экстраполировать на всех. И когда я поняла, что «Я горю» — это возможность сделать перформанс, который будет задействовать мое тело, я решила в нем поучаствовать.
Перформанс состоял из того, что я занималась самобичеванием при зрителях. Также я написала песню, составила ее по примеру лаудариев (покаятельные песни. Трек Саши можно услышать в этом видео. — Прим. ред.). Это круговая, монотонная композиция. Я читала текст, в котором были слова: «Наша нечаянная вина — это тоже наша вина. Невозможно прожить жизнь, никому не сделав зла. Как не бывает человека, вышедшего сухим из воды, так нет человека без греха. Я, совершивший беззаконие, убоюсь Страшного суда». Это много раз повторялось. Мне было интересно открыть религиозную аллюзию, потому что для меня очень важно, что понятие милосердия токсично, и это очень древний культурный паттерн.
Я знала, что моя работа не будет воспринята правильно из-за того, что я упомянула шизофрению. А упомянула я ее, потому что самая простая трактовка моей работы — самобичевание, которым занимается любой человек, находящийся в угнетенной группе. Его заставляет этим заниматься и система, и чувства внутри: от самоненависти до страха перед той своей частью, которая ненормальна.

Основная суть работы — в амбивалентности любой социальной стигмы (стигма — негативный ярлык, который навешивают на человека. — Прим. ред.). Один из базовых парадоксов стигмы в психиатрии — необходимость быть постером психически больного человека, чтобы получить одновременно и жалость, и стигму. Если человек находится в состоянии распада, ему верят, но его же и изолируют. Если ты высокофункционален, тебе нужно всем говорить, что ты болен. Одно время я настойчиво говорила всем, что у меня шизофрения, — мне хотелось об этом говорить, чтобы себя валидизировать. Мне никто не верил, потому что у меня татуировки, красная помада, я играю концерты. Короче, я не похожа на человека, который жует в углу волосы и рисует калом на стенах. Часто ты идешь на унизительные действия, чтобы доказать свою болезнь. Одно время я была готова людям в лицо справкой тыкать — мне было так обидно, что мне никто не верит, это был полный кошмар.
История психиатрии об этом вся. Сам Мишель Фуко (французский философ. — Прим. ред.) писал, что сумасшедшие заняли места лепротиков (то есть прокаженных. — Прим. ред.), а лепротики воспринимались как люди, которые совершили некое преступление и понесли за это кару. После этого они становились прижизненными великомучениками и возносились, но все равно были отверженными, к ним нельзя было подходить. Эта классицистическая концепция до сих пор осталась в матрице психического расстройства. Это жуткое страдание: ты становишься как бы святым, юродивым, ты можешь вещать что-то, но одновременно с этим как бы расчеловечиваешься.
Все эти практики самобичевания, то есть насильственного погружения себя в стигму и раскаивания за собственный грех, — базовая христианская штука. Были целые общины флагеллантов, которые вставляли в петли плеток шипы и избивали себя. Я повторила все, что делали они. У них были покаятельные песни, где они рассказывали, в чем грешны и почему. Это очень похоже на то, что вообще происходит здесь у нас. Для того чтобы получить милосердие, то есть жалость и копеечку, надо быть или суперсвятым, или абсолютно сумасшедшим. Нельзя иметь гордость, самомнение, нельзя говорить, что ты человек. Нужно быть очень жалким, радоваться копеечке и заниматься публичным самобичеванием. Это базовая практика российской действительности для всех: матерей-одиночек, геев, сумасшедших. В нашей стране нет понимания эмпатии, равенства, есть только вот такое милосердие. Это наша ортодоксальная христианская ментальность.
Мне было больнее, чем я ожидала. И прервалось все быстрее, чем я думала, — я даже не достигла катарсиса. Очень скоро у меня отобрали плетку. Тогда я вышла и сказала: «Или отдайте мне плетку и я продолжу, или уходите». Тогда все встали и ушли. Я знаю, что такой перформанс — это не очень хорошо по отношению к зрителю, но для меня можно нарушать искусством чужой комфорт. Девочка, которая отобрала у меня плетку, потом сказала: «Мне очень жаль. Я прервала твою работу, потому что не могла на это смотреть. Сначала я подумала, что мне очень жалко тебя, а потом я поняла, что просто буду винить себя». Зал не сделал ничего нового.
«Сейчас важно фокусироваться на перформативных психоактивистских и социально полезных практиках»
В проекте «Я горю» участвовало много разных людей, и некоторые из них имеют расстройства. Сейчас мы хотим в рамках собравшегося коллектива продолжать заниматься психоактивизмом. Познакомившись с Катрин и узнав больше о ее проектах (здесь и здесь мы писали об акции Ненашевой «Между здесь и там», а по этой ссылке можно почитать о ее тюремном проекте. — Прим. ред.), я поняла, что сейчас важно фокусироваться на неких перформативных психоактивистских и социально полезных практиках, которые прежде всего направлены на информирование, развенчание стереотипов и выведение из поля невидимости всей этой истории. Это двойная, тройная, десятерная стигма, которая, в общем, по-прежнему работает в том виде, в котором она здесь прижилась.
Мы планируем собрать лекторий и делать еще какие-то вещи, связанные с базовым психопросвещением. Мне не нравится подход, при котором существует патронаж. Лекции и разговоры должны быть не для родителей пациентов, а для всех. Уже не секрет, что малая психиатрия — пандемическая история. Люди должны это все как-то понимать и ассоциировать. Мне кажется, коллективные действия здесь очень важны, как и создание сообщества абсолютно дискриминируемого меньшинства, которое может говорить за себя и артикулировать проблемы. В нем могут быть и люди, у которых нет никаких расстройств, и множество людей, у которых есть диагнозы и которые занимаются самоадвокацией. Также я не вижу смысла ограничивать это сообщество высокофункциональными людьми — если у человека не сохранный интеллект, это не значит, что у него нет никаких целей. Если им прикольно участвовать в коллективной работе, это будет здорово.
Что касается моих личных планов, то я хочу сделать работу про некрократию — вечного президента. Собираюсь реализовать ее самостоятельно, но в рамках чего-нибудь. То, что происходит здесь и сейчас, когда мы точно знаем, что будет на выборах, и когда фигура вечного президента у нас начинает оформляться в какие-то теократические категории, как в Северной Корее, это страшно, выгорательно и стремно. Мы и так все жертвы чьего-либо патронирующего взгляда. Поэтому это важно и для сообщества с расстройствами, и для всех вообще — все погружены в эту среду.