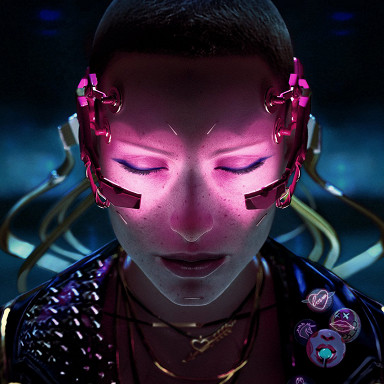За три года реаниматор рейва и евродэнса Давид Деймур, он же GSPD, прошел путь от «Ионотеки» до Adrenaline Stadium — без внимания медиа, эфиров на «Вечернем Урганте» и поддержки мейджор-лейбла.
Почему Давид продолжает работать в режиме DIY, хотя собирает большие площадки? Как и почему концерт на «Сибур-арене» ушел «в минус»? Какие вопросы есть к проекту «Дети Rave»? Что не так с современным рэпом? Почему песни о запрещенных веществах создают ложный образ об их авторе? Кто такая DEAD BLONDE и какую роль она играет в творчестве GSPD? Когда Давид соберет «Газпром-арену»?
Ответы на все эти вопросы — в большом интервью GSPD для «Афиши Daily».
Как достичь успеха с помощью DIY, сколько стоил концерт на стадионе
— Почему ты все делаешь сам?
— В отношении музыки или вообще про все?
— Про все. Туры, активности в соцсетях и так далее. Мне говорили, что ты все делаешь сам, и мне интересно почему. Ты ведь большой артист.
— Это получилось не специально. Не было такого, что я выбрал этот путь — делать все самому наперекор судьбе, вопреки всем трудностям. Просто так получилось. Я не подразумевал свой проект как что‑то серьезное.
Я не успел прочувствовать тот момент, когда хобби переросло в большие достижения. Все шло как‑то и не быстро, и не медленно, а по ступенечкам, но при этом довольно стремительно. Весной 2021 года моему творчеству будет уже пять лет. И к тому моменту, когда уже были успехи вроде собранного «А2», мы это все делали небольшой командой — я, мой менеджер Татьяна, дистрибьюторы, через которых я издаюсь, Peter Explorer, и Арина, мой верный помощник, бэк-вокалистка, режиссер клипов и всего остального. Мы поняли, что для всей этой работы наших знаний и умений достаточно.
Если в какой‑то сфере физически не хватает рук, как, например, для организации концерта в той же «Сибур-арене», — я до сих пор не знаю, как Татьяна это сделала, видимо, у моего менеджера какие‑то сверхспособности, — то мы нанимаем еще каких‑то людей, которые нам помогают. Но в целом незачем все это раздувать до невероятных масштабов, если мы можем и умеем сами. Так же и с музыкой. Сейчас я нашел человека, который мне помогает, — звукорежиссер, саунд-дизайнер, но в целом тексты я пишу сам, музыку — сам. Зачем мне кто‑то другой? Это получилось не специально, но это уже некий стиль работы.
— А как это все получается?
— Это жизненный опыт. Небольшое понимание рекламы и маркетинга — потому что до этого я работал в офисе и занимался рекламой, продвижением сайтов. Притом что специальность у меня вообще не техническая, я по образованию политолог.
— Я тоже.
— Серьезно? А где [учился]?
— В [РГПУ им. А. И.] Герцена.
— А я в СПбГУ (смеется). И ты понимаешь, что специальность в целом прикладного выхода не имела, но помогла что‑то в голове установить, так что я стал на многие вещи чуть шире смотреть. Да и в целом у меня всегда был какой‑то баланс между рациональной и творческой составляющей. И если это сбалансировать, то можно как‑то так и существовать.
Я где‑то сам себе продюсер, где‑то менеджер: у меня одно полушарие думает: «Как это зайдет? Какую песню лучше выпустить? Как лучше что‑то придумать?» — а творческое [полушарие] все это создает. И между этим какой‑то внутренний регулятор, чтобы и творчество не давить, поскольку оно первоочередно, но и чтобы ничего не упустить. У нас есть уже один такой гениальный товарищ — Слава КПСС, он может писать все, что ему вздумается. Вместе с ним может быть и Валентин Дядька, и Соня Мармеладова, и Птичий Пепел (смеется), они могут все, что вздумается, писать. А у меня другой подход, поэтому вот так оно и получается.
— Ты не боишься, что между расчетом и творчеством не всегда получится держать баланс?
— Я задумываюсь об этом постоянно, но пока вроде все получается держать в равновесии. Но чем дальше ты продвигаешься, тем больше творческих задач приходится решать.
— Что тебе больше помогло в карьере: четыре класса музыкального образования? Работа в маркетинге? Или политология дала какой‑то системный подход ко всему?
— (Смеется.) У меня почему‑то сейчас картинка в голове, что тут должен быть еще четвертый вариант и правильный ответ, как в «Кто хочет стать миллионером?». И четвертый вариант какой‑то глупый. Скорее всего, у меня и будет четвертый вариант. Но, если отвечать на вопрос — наверное, все вместе. Это бэкграунд. У каждого человека он есть, у меня он вот такой. Я не буду скромным, скажу, что работоспособность все-таки влияет на все. Как только года три назад я понял, что мой проект интересен людям, расходится в массы и может мне в жизни как‑то финансово помочь, я сразу начал в этом направлении работать. Из шутки все это переросло в работу. Это трудоспособность плюс везение.
Это не отменяет того факта, что у всех этих людей есть какая‑то трудоспособность. Но шанс оказаться в нужном месте в нужное время — он очень важный. Это все работает в совокупности.
— То есть у тебя нет одного фактора, которым бы ты объяснил свой успех? Потому что многие, кто пару лет назад выступал в «Ионотеке», продолжили выступать в «Ионотеке», а ты быстро начал собирать «А2».
— Чуйка какая‑то есть. Я всегда в музыку привносил что‑то свое. Даже про новый альбом некоторые сказали, что какая‑то «колхозность» в нем есть, но в этом есть и какая‑то самобытность. А из факторов помимо удачи и работоспособности я бы выделил культурологическую чуйку — в плане понимания того, куда культура вообще движется, чтобы предвосхищать эти процессы.
Ну и любовь к своему делу. Я изначально не относился к этому как к зарабатыванию денег. И сейчас по большей части не так отношусь, я стараюсь и концерты делать подешевле, и мерч выпускать подешевле.
Я подумал: «Ну в целом это не так много — отдать 8000 из своего кармана, чтобы стать стадионным артистом». (Смеется.) Мы очень много потратили на свет, на шоу, на подтанцовку, салют — хотелось для людей сделать крутое мероприятие. Заработать деньги на свои потребности я все равно смогу, а вот еще и сделали такой крутой концерт. В общем, наверное, мой подход в этом и есть.
Новый альбом «Ленинградский Электроклуб», как часто стоит выпускать музыку
— Полтора года с момента выхода предыдущего альбома — это много или мало?
— Вопрос хороший, мы об этом на студии постоянно дискутируем с ребятами и со звуковиком. Это как посмотреть. Если в рамках сегодняшней культурной музыкальной парадигмы, в которой мы живем, с цифровыми стримингами — то конечно же много. Полтора года — за это время артисты успевают по три альбома, а кто‑то по четыре ЕР выпустить, полторы минуты каждый, получить свои стримы на всю жизнь. Если смотреть на музыку чуть шире, то надо рассмотреть кого‑то знакового в своем жанре.
— Coldplay, Arctic Monkeys, U2.
— Я почему‑то сразу подумал про того, кто мне в детстве больше нравился, —Эминема. У него очень много релизов, но все они выходят с промежутком в три-четыре года. У рок-групп, тех же AC/DC, вообще по пять лет промежуток.
На старте моей карьеры у меня было довольно много релизов: была куча материала, мне нужно было сразу все преподнести, чтобы люди увидели весь спектр моих музыкальных возможностей. Я же довольно разножанровую музыку пишу, есть и рок, и рэп, и техно, и все-все-все. Но сейчас я все это показал и просто работаю над тем, чтобы все это сделать качественнее. А на это, безусловно, нужно время. Поэтому я считаю, что полтора года — это хороший срок.
— Слышал от артистов такое: чем больше перерыв между твоим предыдущим альбомом и следующим, тем выше ожидания у слушателей и тем больше ответственности.
— Безусловно. Мне еще везет, потому что у меня суперлояльная аудитория, очень крутые слушатели. ❤️ (Давид попросил редакцию оставить здесь сердечко. — Прим. ред.). Я недавно выложил фото, что альбом переносится, потому что мы там коронавирусом переболели, а они такие: «Ладно, подождем!»
Ты прав: чем больше ожидания, тем больше ответственности. Как с пресловутым «Киберпанком 2077»: он долго выходил, имел большой кредит доверия, люди ждали чего‑то невероятного. А на деле не получилось того эффекта, который хотели.
Это было круто, я узнал город лучше многих местных ребят, с которыми мы учились. И в целом понял всю эту движуху зарабатывания денег. Еще и диплом получил потом.
— Нижний Тагил. Насколько реальный Нижний Тагил отличается от Нижнего Тагила из мемов?
— Да, наверное, не отличается. Конечно, любой стереотип — это совокупность самых меметичных, веселых и, наоборот, самых ужасных вещей. Но стереотипы никогда не рождаются на пустом месте. Что‑то становится их причиной. Так же и с моим любимым родным Нижним Тагилом. Мемы, шутки — они же не берутся из небытия. Мы еще учились в школе, когда по Первому каналу показывали видео, где едет человек по зимней дороге, а перед ним просто так вылетает танк и проезжает дальше. Казалось бы, очень странно. На деле у нас тут Уралвагонзавод — там вагоны, танки. И водитель там просто не заметил светофора — он был похож на трамвайный, треугольный такой.
Когда дорогу перегораживают и с завода должен ехать танк — обычная ситуация для города, но для остальных — дичь какая‑то! Шутки про то, что грязный город, — да, это правда. Люди там чудаковатые — ну да, это все правда.
— Когда последний раз был там?
— Последний раз? Я сейчас редко приезжаю в Тагил как домой, потому что все-таки квартира у меня уже в Петербурге, и мама живет у меня в Петербурге. Бабушка в Нижнем Тагиле, но все равно редко получается заезжать. Последний раз был в 2019 году, полтора года назад.
— Заезжал туда с концертом?
— Нет, с концертом не заезжал. Я был один раз в Нижнем Тагиле с концертом, это было в 2017 году. Насколько можно себе представить андеграунд — это вот то.
— Если я хочу себе представить андеграунд, я думаю о первой «Ионотеке» на Москательном переулке.
— Я тебя сейчас переплюну. Площадка в Тагиле — это был гараж. Настоящий гараж, в буквальном смысле. Скорее всего, туда ставили какие‑то КАМАЗы, большие машины. Ров и карьеры. Лютейший мороз. Я тогда еще не относился к творчеству как к работе, приехал такой, хи-хи, ха-ха, договорился с пацанами, что сделаем концерт, а пришло аж пятьдесят человек!
Я так испугался, добежал быстрее до гаража. А там ты окунаешься в киберпанк-1993 (смеются). Концерт был сумасшедший, там до меня на разогреве выступал какой‑то парень под [роскомнадзор], это был полный треш.
С тех пор я понял: в Нижний Тагил я приеду тогда, когда мы сможем собрать самое крупное место там — это «Металлург-форум». Там Баста выступал, это площадка, где проводят волейбол, баскетбол и всякие конференции. Как «Экспофорум» (конгрессно-выставочный центр в Санкт-Петербурге — Прим. ред.), только чуть поменьше масштабом.
Большие концерты и доходы от музыки
— Я думаю, что многие артисты на твоем месте захотели бы сделать этот чекпойнт за любые деньги. Как в такие моменты тебе удается держать голову холодной? В мире, где артисты берут большие авансы, растрачивают их, а потом обвиняют лейблы.
— И грозятся, что фамилии расскажут (смеется). Это, конечно, история смешная (имеется в виду кейс Шарлота, обвинившего лейбл Sony Music Russia в плохом отношении к себе. — Прим. ред.). Я бы мог бы с горящей головой сказать: «А, хочу вот в Нижнем Тагиле сделать концерт!» Но, при всей моей любви к Нижнему Тагилу, своим городом я считаю все-таки Санкт-Петербург, я здесь уже треть жизни прожил. Скоро это все будет подходить к половине жизни.
Этот чекпоинт у меня случился — с «Сибур-ареной». Рационально ли это было? Вопрос спорный. У меня был концерт в «А2». «А2» — это самый большой клуб в городе. Куда еще после «А2»?
— «Юбилейный»?
— А они одинаковые с «Сибур-ареной». Я смотрел в Google, там посадка даже меньше.
Как мы решили собрать стадион в Питере? Наверное, человек, который думает больше про расчет, сказал бы: «Давай еще раз соберем „А2“, только цену поставим не 800 рублей, а 3000». Но я тем самым обижу слушателей, потому что самая преданная фан-база у меня — в Питере, они ходят на меня еще с лохматых лет, с «Ионотеки».
С другой стороны, я понимаю, что я могу собрать стадион. Да, это история не про деньги, но я заработаю ачивку для себя как для артиста, ну и для зрителей это будет круто. Вот это и произошло. А что касается холодной головы, как ее держать: я пришел в творчество, в шоу-бизнес, уже в довольно взрослом, сложившемся возрасте.
Я считаю, что сейчас есть проблема, когда ребятам по семнадцать-восемнадцать лет, они залетают в топ, у них появляются огромные деньги, известность, это расшатывает неокрепшие головы. Ты не знаешь, что делать с деньгами, с известностью, не знаешь даже, как распоряжаться творческим потенциалом.
А у меня это началось в двадцать четыре года. Для новой школы я уже старик, у меня за плечами и институт, и работа в такси и в офисе. С деньгами я работал, голова у меня на месте. Какие‑то устоявшиеся критерии жизни тоже есть, мне гораздо легче. Есть у меня такой скилл — жить не по потребностям, а по возможностям.
Я абсолютно не бедствую, сумел приобрести себе квартиру, маме подарить квартиру, купил авто. Но при этом я не стал брать что‑то, что было бы не по моим возможностям. Это не квартира за тридцать миллионов где‑нибудь на Петроге (Петроградский район Петербурга. — Прим. ред.), где выход на яхты. Я взял то, что в моих возможностях, рассуждая так, что, когда я буду еще богаче, возьму что‑то другое. У меня будет тот минимум, который мне обеспечит спокойную старость и нормальную жизнь в целом. Я мог взять «ламборгини», но я взял простое премиальное авто для жизни, для работы. И я стараюсь этого придерживаться во всех сферах жизни.
— Что приносит больше доходов: роялти или туры?
— Сейчас, конечно, ситуация [с роялти] становится лучше. Как бы мы ни хаяли всю эту цифровую индустрию, российских артистов все лучше и лучше подкрепляют деньгами. Поэтому еще в 2019 году я мог бы точно сказать, что концерты приносят мне больше денег. Сейчас мы живем в момент победившего рэпа, скажем так. Многие артисты даже в туры не ездят, а зарабатывают на роялти. Моя фишка в том, что у меня большие концерты.
Слушает меня, может, не так много людей, но мы собираем одни из самых больших концертов по стране, это скажу без ложной скромности. Конечно, если не брать в расчет звезд величины Филиппа Бедросовича, но вообще все хорошо.
Поэтому больше денег мне приходит с концертов. Но с каждым годом и материала у меня становится больше, он улучшается, и его слушают. Я бы сейчас сказал, что роялти — это 30–35% [доходов], а концерты — 65–70%. Но посмотрим, что будет в 2021 году.
GSPD предвосхитил жуков-поп: это правда?
— Ты сказал, что мы живем в эпоху победившего рэпа.
— Увы.
— Почему «увы»?
— Мне это не нравится (смеется). Я же не отношу себя к рэп-комьюнити несмотря на то что у меня есть много друзей-товарищей [из этой сферы]. Говоря таким американским выражением: это не моя музыка. Я больше про электронику, про попс даже. Мне кажется, я нашел для себя идеальный жанр, не знаю, насколько ты вообще разбираешься в электронике, но есть такой стиль — хард-данс. И это вот прям мое. Каждый жанр хорош по-своему, но мне не нравится, что сейчас идет очень много паразитирования. Казалось бы, не мне, человеку с довольно легкими текстами, говорить: «Ох, нет смысла, как все плохо», но я-то и не преподношу себя как текстовик. Я создатель музыки. Электронная музыка — это всегда было про саму музыку. Слова — это только еще один инструмент. А современный рэп сейчас — это и не про музыку, и не про слова.
— Про вайб, про атмосферу?
— Про вайб, про тренды. Про челленджи. Как перформансы — это уже другой разговор, это пускай перформеры судят. А как музыка — мне кажется, что он так себе. Хотя тоже не хочется превращаться в какого‑то старого бздуна и говорить, что вот, все плохо (смеется).
Когда я пришел в музыку, я топил за творчество, за уникальность, вот как ты это можешь, так и делаешь. Я знаю, что меня в электронном комьюнити, особенно московском, очень много хейтили за то, что я делаю херню, а не электронику. Но я хотя бы что‑то уникальное делаю, как могу. Сейчас развился уже, могу себе позволить. Я пытался не копировать никого, никому не подражать, тем более каким‑то российским или западным артистам, а делать так, как получается. Так, как я это вижу и представляю.
В общем, хочется больше разнообразия в музыке. А то что‑то 2019–2020 годы в плане контента очень унылые. Я сморю по своим товарищам, многие переносят альбомы, релизы. Это связано, во-первых, с пандемической ситуацией, во-вторых, есть ощущение — кто‑то до меня уже высказывал эту мысль, — что как молодежь нашего времени шутила про 2007 год («верните мой 2007-й»), так же те, кто лет на десять помладше, будут вспоминать 2017 год.
— 2017 год, да. Пассионарный взрыв.
— Интересный, да, культурный феномен? Те имена, которые выросли в 2010-е годы, они сложились и приобрели вес. Чего стоит эпохальный баттл Славика и Мирона. Это взрыв, это даже по телику показали. И это было такое слияние интернета и телевизора. Андеграунда и мейнстрима, такой взрыв сверхновой. А после чего‑то большого происходит падение.
— Да если посмотреть на историю популярной музыки в постсоветской России, можно проследить несколько волн. Был 1997–1999 год, когда «Иванушки» и Hi-Fi появились. Когда поп-музыка радикально взбодрилась. После этого тоже все немножко поскучнело. Потом 2013 год, когда появился условный Yanix, — и рэп максимально освежился.
— Можно выделить и современную волну рока, и рэпа.
— Да. Сначала рокапопс был в конце 1990-х: «Мумий Тролль», куча фрешменов с «Нашего радио», потом альтернативная волна.
— Да, оно идет волнами. Для культуры это нормально. Для людей, которые живут сегодня, — немножко грустновато, хотелось бы увидеть что‑то интересное и посмотреть, куда это движется. Мне правда все время интересно со своими друзьями обсуждать музыку как культурный феномен.
Это дико интересно, на мой взгляд, отслеживать, потому что ты можешь делать какие‑то прогнозы, отмечать какие‑то закономерности, фантазировать об этом. Мне всегда это интересно.
— Мне кажется, что ты в какой‑то степени предвосхитил рейв-составляющую в поп-музыке, которой сейчас много. Которая сейчас радикально упростилась до того, что Коля Редькин назвал метким термином «жуков-поп». Ты чувствуешь свою руку в том, что сейчас куча хитов с ускоренной прямой бочкой, как в 1990-х?
— Знаешь, хотелось бы верить, что какой‑то вклад в современную поп-культуру я внес. Думаю, что какой‑то процент правды в этом есть. И до меня были ребята, которые это делали, и те, кто после делает. Ну и андеграунд в какой‑то момент начал набирать популярность.
Не будем отрицать того, что в рейв-музыке до меня были Little Big, но они были немножко про другое. Они все делали на английском языке и изначально были группировкой видеомейкеров, блогеров. У них саунд был больше заточен на Европу, по крайней мере в то время. А я пришел с такой позицией, что почему бы не делать это на русском, не опираясь на них, конечно. С текстами, которые были бы «заедучими» в твою голову, которые были бы близки нашей широкой русской душе, такой провинциальной, жаждущей даже не хлеба и зрелищ, а выпивки и танцев (смеется).
— У тебя в 2018 году выходит клип «Евродэнс», а следом выходит «Слэмятся пацаны» Жукова с теми же Little Big. Мне кажется, что есть некая закономерность, последовательность.
— Возможно. Мне кажется, что люди, которые делают плюс-минус похожую музыку, следят за тем, куда что движется. Может, ребята увидели, что это популярно, и решили привнести это в свое творчество.
Но это же круто, что вот еще и такая стезя появилась в музыке. Был период, 2013–2015 годы, такой постпанк, такая русская грусть, постсоветский думер-саунд (смеется) его называют.
После всей движухи с R’n'B молодежи хотелось погрустить. Музыка очень часто идет в протест предыдущей. И это был своеобразный протест гламуру. Людям хотелось такого вайба, глубины получить. Я слушал это и понял, что хочется уже чего‑то движового, — и стал сам это создавать.
— То есть ты послушал постпанк, понял, как делать не надо, и стал делать как надо?
— Да не то чтобы как не надо. Мне нравился постпанк, но я понял, что та музыкальная реальность хоть и была крутой, но в какой‑то момент наскучила. Я сам слушал такую музыку, потому что она мне напоминала Виктора Цоя и вайб 1980-х, он мне очень нравится. Люди же вообще часто рефлексируют о той музыке, которая у них была в детстве.
Я в детстве очень много слушал всякой разной электронщины, даже чуть больше, чем сверстники. Как‑то я сам узнал в одиннадцать лет о существовании Бенни Бенасси, пошел на рынок, нашел там кассету, купил и, когда включил дома, подумал: «Вот это музыка будущего!» Это 2002 год там был, или какой, 2003-й. И вот какая «музыка будущего» у нас сейчас (смеется) — кальянный рэп.
«Я больше всех в стране собираю — и где мои плакаты по всему городу?»
— Тебе не кажется, что твой вклад в поп-культуру недооценен на уровне медиа?
— Я с этим не то чтобы смирился — тут тоже нужно включать холодную голову и понимать причинно-следственные связи. До поры до времени, да и до сих пор я этим бомбежом занимаюсь: мол, какого хрена, я там больше всех в стране собираю — и где мои плакаты по всему городу.
— Я просто чувствую это противоречие и не могу сам себе его объяснить.
— Я сам вообще не очень-то медийная персона. Я не знакомлюсь с «нужными людьми», не хожу каждые выходные в «1703» и не выражаю респекты всем, независимо от того, нравится мне человек или не нравится. Я скорее такой немножко хейтер (смеется).
— Я почитал твой твиттер: да, может сложиться такое ощущение.
— При этом я абсолютно честный человек, если мне что‑то не нравится — почему я должен об этом молчать? Ну вот серьезно, с детства нас всех учили: говори правду! Правда — это благо. Если мне кто‑то не нравится и я считаю, что человек делает херню какую‑то, почему я должен молчать? Если комьюнити считает по-другому — ок, но я не буду с этим соглашаться. Я вот такой честный хейтер.
А почему вклад недооценен — это то, о чем мы говорили в начале. Есть момент случая и момент того, как человек появляется в нужном месте в нужное время. Если в плане творчества у меня звезды сошлись, то в плане медиа — я не появляюсь ни в нужное время, ни в нужном месте, потому что я дома в основном сижу (смеется), либо на студии, либо провожу время со своими друзьями. А в это все я не лезу.
Медиа до сих пор не знают, что я за человек, чего от меня ждать и на хрена вообще меня приглашать, поскольку абсолютно непонятно: может, я приду и нормально пообщаюсь с тобой про культурную составляющую и выпью латте, а может, я начну себя вести как в некоторых текстах моих композиций (смеется). Плюс очень многое делается именно по рукопожатности. А раз я мало с кем общаюсь, не происходит цепная реакция, она дальше не идет. Я не знаю, насколько у вас есть связь с «Афишей Видео».
— У нас минимальная связь.
— Мы как‑то общались, чтобы появиться в каком‑то шоу, казалось бы, со всеми заслугами уже пора — но пока нет. Не знаю, возможно, у людей в голове есть какой‑то китчевой, эксцентричный образ, который я изначально преподал, ненормальный немножко, — и люди думают, что я в действительности такой человек, как Паша Техник (смеется). Но я очень люблю Пашу Техника, мы с ним даже хит записали в 2018 году.
И в целом, кажется, нечего спросить: человек делает музыку такую примитивную: бочка, бас, расколбас, «адидас» — все, выпускаем. Но это не совсем так. Новым релизом в музыке пытаюсь это как‑то развеять. И в инстаграме, и твиттере я пытаюсь это объяснять, чтобы люди отделяли творчество от самого человека, потому что мне не хочется, чтобы меня воспринимали тем, кем я не являюсь, вот и все.
Творчество vs. образ: почему артисты не в ответе за слушателей
— А ты боишься, что никто не отделяет твой образ и творчество от тебя как человека?
— Да я-то не боюсь, я просто знаю, что многие люди до сих пор думают, что я описываю какой‑то свой лайфстайл, хотя это исключительно какой‑то лирический герой. Он мне симпатичен с точки зрения иронии. Это же такая призма, через которую можно иронизировать над современной действительностью, действительностью 1990-х. Я это делаю, потому что мне близки эти лирические герои, мне это кажется забавным.
— А если к тебе подходит шестнадцатилетний подросток и предлагает такое, ты как‑то рефлексируешь на этот счет?
— Рефлексирую с какой точки? Что я на него так повлиял? Или почему он так думает обо мне?
— И так и так.
— Если он меня так воспринимает — скорее всего, потому, что я делаю не какой‑то суперглубокий продукт. Как сказал Андрей Андреич Хан Замай, есть порог вхождения. И порог вхождения здесь не такой высокий. Это музыка для души и тела, человек не будет вникать в нее, он может даже не читать меня нигде, а просто слушать мою музыку, наслаждаться. И он может думать: «Ну вот, Давид так пишет, значит, он такой». Так все думали, что Набоков насиловал малолетних девочек, а Достоевский ходил там у нас и топором размахивал. Тут винить некого.
Нет. Так сложилось, это стало частью массовой культуры, как в свое время MTV и другие маркеры. Почему так стало? Не знаю, вопрос уже не ко мне. Может, доступность, может, цифровые технологии, но это зависит абсолютно не от меня.
Я лишь человек, автор, который отражает действительность. И когда меня кто‑то пытается обвинить в том, что я занимаюсь пропагандой, разложением молодежи, — увы, у меня всегда на это куча разных тезисов. Это как с «пропагандой» гомосексуализма. Мы жили в более открытое время, чем люди сейчас, я прекрасно помню программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Уж чего там только в детскую голову можно было заложить! Но я вырос нормальным парнем, в том смысле, что я обычный человек, в подъезде не сижу.
— Не ведешь себя как герой передачи «Окна».
— Да. Закончил институт, занимаюсь творчеством, веду обычную жизнь. Я очень любил в подростковом возрасте «Кровосток». Как только я их услышал, я открыл для себя сразу целый пласт культуры. Еще не было привычки гуглить, не было источников, и я тоже думал, что это лайфстайл такой у всей этой компании. Видишь, я тоже не вникал, когда был маленький.
Мне казалось: вот это жесть! Мужики чуть ли не с зоны пишут свои тексты! Это было одновременно и страшно, и интересно слушать. Потом, когда я узнал, какие это на самом деле милые ребята — перформансеры, художники, я понял, как это круто. Так и здесь. Для чего нужны родители? Наверное, не только для того, чтобы зачать и дать жизнь, а дальше пусть он, как в дикой природе, бегает сам. Нет, за ребенком нужно следить и воспитывать его, а не перекладывать воспитание на артистов и запрещать концерты. Практика запретов вообще глупая, ребенку и подростку интереснее всего то, что ему запрещают.
— Эффект Стрейзанд.
— Да (смеется). Или как у Бейонсе, когда каждый год празднуют день, когда ее адвокат «изъял» фото из сети.
— Да, так все работает. Я сразу вспомнил строчку «Френдзоны»: «Развращаете детей, я для них не воспитатель». Их концерты тоже запрещали.
— Так и мои запрещали. Я это не так сильно афишировал. Кстати, к предыдущему вопросу про рефлексию и образ: меня это тоже не очень радует! Это был 2019 год — всплеск интереса даже не правоохранительных органов, а чуть повыше. Внимание ко мне, к моим концертам. В Москве забегали чуть ли не с автоматами, в масках в Adrenaline Stadium после концерта, с телекамерами. Я думаю, у людей была какая‑то всеобщая уверенность, что они забегают в мою гримерку, у меня там [роскомнадзор].
— Ты лежишь, а у тебя секс-работница со спины слизывает [роскомнадзор].
— Да, а ситуация крайне смешная: у меня стоит заваренный чай, торт, который мне подруга подарила, одежда всякая, реквизит — как в каком‑то ТЮЗе провинциальном. Глупейшая ситуация! Они сами немножко опешили — меня проверили, заставили сдать анализы, хотя это было абсолютно неправомерно. А у меня все было чисто как в алтайском источнике, как в Байкале. У людей разрыв шаблона случился: а почему, а как так. Нас еще немножко помурыжили и отстали.
Когда я пытался вывести этот вопрос в медиаполе — мол, ведь это же нехорошо, происходит беспредел, — я увидел от многих людей мнения в духе «ну так и надо тебе, ты наркоман, расстрелять вообще надо». Я понял, что так работает несоответствие жизни и образа. И это пишут люди, которые за милую душу слушают Шнура с его тестами, «Красную плесень», «Сектор газа», «Агату Кристи».
— Может быть, на людей сильно влияет рождение детей?
— Хочется, чтобы люди оставались самими собой, невзирая ни на возраст, ни на наличие детей. У меня есть пример моей мамы. Она меня родила довольно поздно, в двадцать девять лет, но она у меня суперлиберальных взглядов. Она слышала мои песни, она знает, чем я занимаюсь, но она понимает, что это просто творчество. Когда они были молодыми, в 1980-е, в 1990-е, все было то же самое.
Люди как будто просто забывают себя-подростков. Я понимаю, что люди становятся старше, у них появляются дети, они о них заботятся и боятся, но это переходит черту, когда папа не пускает сына на концерт, сын злится, в семье начинается конфликт. Маленьким детям запрещают все — это не работает. Может, психологи скажут, что я не прав, но я считаю, что помимо родительской функции нужно быть ребенку другом — и это очень важно.
А чтобы быть таким человеком, нужно быть зрелым и умным, а, к сожалению, не у всех родителей получается проявлять свою зрелость, даже будучи взрослыми людьми.
— Я сразу вспомнил знаменитое обращение отца мальчиков из Новосибирска к Элджею. Тебе никогда не писали чьи‑то родители?
— (Смеется.) Нет, родители мне не писали, хотя, может, я просто не читаю. Я закрыл доступы к личным сообщениям от греха подальше. Но в целом такое проскакивало. Однако меня радует, что мне пишут люди в духе «я мама, я старшая сестра, ребенок слушает твои песни, мы с ним обсудили, что это за образы, откуда предпосылки». Даже если брать рейв-музыку, тех же The Prodigy. Там тоже не было ничего про солнечный круг, небо вокруг. Это было давно, и мир после этого не поменялся в том смысле, что все резко стали убийцами и наркоманами, наступила разруха. Наоборот, каждое последующее поколение все добрее и добрее. Посмотри на зумеров, они все солнечные и добренькие.
— Да, люди из рэп-клипов конца 2000-х, которым там по двадцать с небольшим, выглядят как повидавшие виды тридцатилетние, которые прохавали жизнь. И это жестко контрастирует с их ровесниками сейчас.
— Да, так это и работает. Люди говорят, что все становится хуже и хуже, и мы куда‑то катимся, но в целом-то нет. Все становятся добрее, толерантнее, открытее. Меня очень радует, что я встречаю людей, которые говорят, что их ребенок слушает, они там всей семьей в машине едут, отдыхают, выбирают что‑то, где мата нет, просто танцевалочки с подстебами. Для меня было удивление. Я сейчас заканчиваю работу над альбомом и заметил, что у меня большинство песен сейчас вообще без нецензурщины. При этом чем дальше мы движемся, тем меньше обсценная лексика в музыке воспринимается как что‑то плохое.
— Язык становится более раскованным.
— И мне это очень нравится, я обожаю русский мат. Умение хорошо материться по-русски — это скилл. Когда ты умеешь хорошо материться, а еще и в целом разговаривать на русском языке хорошо — это тебя только дополняет, потому что это богатство языка. Это наша речь.
GSPD не был на «Вечернем Урганте». Почему?
— Ты считаешь себя артистом?
— Я думаю, да (смеется). А почему нет, я делаю музыку, выступаю — вроде бы все подходит.
— Меня очень удивляет, почему тебя до сих пор не пригласили на «Урганта».
— Мы отправляли запросы туда, но, видимо, им не особо нравится, что я делаю. Я могу их понять: это точно не формат Первого канала. Но сейчас настал тот час, когда самим предлагать уже некрасиво, пусть сами позовут.
Была премьера фильма «Смотри как я», где был мой саундтрек «Не отдам мусорам», причем мы специально панк-версию написали. Вышло замечательно, у песни вторая жизнь получилась. Я ее написал вообще в начале 2017 года, а в 2020-м она снова переродилась. Это уже формат не какой‑то тупой «бочка-бас», не элджеевщина. Я к чему: там можно заменить всего пару слов, чтобы это было телевизионно, тем более фильм вышел при поддержке Фонда кино, но в итоге все равно нет. Ну на нет и суда нет. Благо это никак не влияет на карьеру.
— Но по-хорошему, приглашение в «Вечерний Ургант» — это скорее такая галочка, чем карьерный буст.
— Да. Сейчас вся эта медиаигра с каждым годом меняется, трансформируется. Еще в 2015 году, если тебя звали на телек, это было «вау, я теперь телевизионная персона». Я имею в виду даже не «Урганта», а любое ток-шоу, передача, где ты как эксперт выступаешь. Потом было так: если ты появился на «Урганте», у тебя подлетали прослушивания, сборы. А сейчас это приелось, потому что уже каждый второй был на «Урганте»: скорее можно выпендриваться тем, что я собираю, но я там не был (смеется). Все эти алгоритмы работают по-другому, нужно просто понимать, чего ты хочешь сам, чем ты интересен.
Я очень рад, что у меня нет какого‑то события, о котором я мог бы сказать, что вот я на этом хайпанул или я на этом взорвал. Нужно понимать и постоянно держать в голове, что у большинства артистов есть путь в гору и путь с горы. Потом может нарисоваться еще какая‑то гора, но в целом всегда есть какой‑то пик славы, потом ты можешь задержаться на каком‑то плато, можешь приспуститься немного. Но по-другому не бывает, только если ты не какая‑то легенда, как Курт Кобейн. Шел, шел, но что‑то случилось, и ты закончил карьеру. И когда этот пик происходит почти на старте, это очень страшно.
— Быстрый пик — быстрое падение.
— Ты даже не успел насладиться моментом славы, моментами туров. А я очень благодарен, что у меня есть возможность, например, приезжая в какой‑то город, вспоминать, что там было. Если взять, к примеру, Новосибирск, сначала я там в баре выступал, потом в клубе «Подземка» и собрал его наполовину, а потом приехал туда же и собрал целый. Сейчас мы его собираем два раза, два дня у нам там концерты идут. Это очень положительные эмоции: ты видишь, что в каждом городе мы начинали с маленького барчика, а сейчас уже доходим до двух концертов на арене. С каждым годом привносится что‑то новое: скилл выступления, чувство уверенности на сцене. Мы пытаемся в провинцию привносить элементы шоу — криопушки, всякое такое, чтобы людям было круто. Чтобы это не было так, что я один раз на радио прозвучал, приехал и сам не понял, что происходит. Как эти кабальные туры, чес по шестьдесят городов.
Концерт как большая дискотека: почему в этом нет ничего плохого?
— Не сочти за хейт: один мой коллега посетил твой прошлогодний концерт в «Сибур-арене», и у него сложилось ощущение какой‑то глобальной дискотеки. Люди настолько разогрелись, что, если бы в этот момент ты покинул бы сцену, они бы продолжили бы тусить, не заметив твоего ухода. Грубо говоря, это был не концертный, а скорее дискотечный вайб. Как бы ты на это ответил?
— Я это даже не считаю претензией, спасибо за мнение! Я ведь примерно такого эффекта и добиваюсь. Ну и это ведь мнение одного человека. Думаю, он вряд ли является моим фанатом, следит за мной. Есть много людей, которые не являются фанатами моего творчества, но они приходят, потому что…
— …потому что опорно-двигательные активности!
— Да! И после того, как они посетили концерт, они становятся фанатами моего творчества. Это первый плюс: приходит холодная аудитория, которая нас знает. Второй плюс: здорово, если я взял на себя миссию делать такие дискотеки, причем не ночные, а легальные. Вот вечером, после работы или учебы, приходи и развлекайся! Я вижу в этом плюс, потому что до поры до времени у молодых ребят реально не было такого места, куда они могли бы прийти просто потанцевать, энергию выплеснуть. А я этот дискотечный вайб разбавляю и мошпитом, и серклпитом, и всякими такими более рокерскими вещами. Для чего? Во-первых, мне самому по кайфу смотреть на эпическое зрелище (смеется). Во-вторых, как я это представляю. Вот был я молодым парнишкой. Я и сейчас молодой, но не настолько (смеется). В Нижнем Тагиле были такие разборки — сходить, друг другу морды побить за гаражами, потому что все пышет у молодежи. И вместо того, чтобы где‑то выяснять отношения и проявлять силу, вы влетаете в толпу в 5000 человек и выпускаете весь пар!
Я на некоторых концертах друзей инкогнито проникал в слэм, чтобы побеситься, это здорово, это круто. Третье, что можно на это сказать: если я ввожу людей в такое состояние, что они не понимают, на сцене артист или нет, то это мне хвала, что они в такой эйфории получают наслаждение от концерта. Когда люди приходят на рэп-артиста или рок-группу, где они хотят именно послушать музыку, это одно. А у меня они не приходят на мои вокальные данные, они приходят на шоу, там все сияет, все блестит, на них со всех сторон светит, что‑то сыпется сверху! Конечно, в этом многообразии праздничного контента они могут про все на свете позабыть, окунуться в эти эмоции. Когда вас несколько тысяч, там мясо происходит. Я это не считаю претензией, плюс-минус такого эффекта я и добиваюсь.
— Может ли возникнуть такое, что сначала эти 5000–7000 человек слэмятся, а потом ты выходишь на улицу, а эти люди тебя в лицо не узнают?
— Наверняка часть тех, кто пришел на концерт, может меня не узнать. Просто потому, что им сказали друзья, что есть такой артист, у него вот такие треки, просто мясо. Здорово, что люди приходят. Для меня это не проблема, потому что большинство все равно узнает. Несмотря на то, что есть условно левые люди, ко мне очень сложно прийти извне, я не мелькаю вне своего информационного поля. Поэтому на меня приходят те люди, которые меня слушают. И мне как артисту гораздо важнее, чтобы людям нравились мои песни, а не мое лицо, и чтобы оно было узнаваемо.
Мне приятнее, если включат первые три секунды какого‑то трека и люди узнают меня, чем если бы я просто шел по улице и кто‑то сказал: о, да это же тот паренек в кепке, это GSPD! А что он делает? Да хрен знает, я просто его знаю. Это другой подход. Есть много ребят, ютьюб-блогеров или артистов…
— …которых ты можешь знать в лицо, но не знать их треки.
— Да. Ты знаешь лицо, а его песни — а хрен его знает.
Почему Давид критикует «Дети Rave»
— Скажу честно, я не знаю ни одной песни «Дети Rave», но знаю его лицо (лидера проекта Ильи Буркова. — Прим. ред.). Мне кажется, в этом такое забавное противоречие. Он яркий, с подведенными глазами, но я не могу вспомнить ни одной его песни.
— Ну, у него в свое время известная песня была, «Турбопушка»!
— Знаю, что она была, но не могу ее вспомнить.
— (Смеется.) Ну вот. И многие люди прокачивают свой образ, чтобы себя как медиаперсону продавать. У меня сначала были не то что обиды на это, а непонимание вообще. Например, в 2017 году, в 2018-м — у меня уже были «Главклуб», «А2». А я смотрю на других артистов, известных медийных лиц, которые собирают в пять раз меньше, чем я. Какие‑то альбомы — по лайкам, репостам и соцактивностям они тоже меньше меня. Но этого человека зовут во все шоу! Что это человеку дает, мне непонятно. Может, какой‑то другой вид заработка, на рекламе в инстаграме или еще что‑то. Это не мой путь, мне это не интересно.
— Ты критиковал «Дети Rave». В чем суть и причина твоих претензий к нему?
— Самое главное, что мне кажется странным и не нравится мне и электронному комьюнити, которое со мной солидарно, — это слово «рейв» в названии.
И если в своем случае я всегда оправдаюсь тем, что я композитор, по сути, я пишу музыку, то там это не работает. И смешивать мух и котлеты здесь не нужно.
Я бы не был так резок в своих высказываниях, если бы не утрированная, концентрированная реклама от сами знаете какого лейбла. Они преподносят любого своего артиста как уникального, как «короля жанра», как «амбассадора» — и это очень смешно. Потому что это артист, который элементарно на площадках меньше собирает, его песни меньше известны в какой‑то среде, у которого в целом активность меньше и он вылезает только за счет лейбла. Считаю, что я имею право на это ответить, потому что я не хочу, чтобы мой труд и мой вклад обесценивались.
Я с человеком [Ильей Бурковым, «Дети Rave»] виделся один раз, он набивался ко мне в друзья-товарищи, хотел выпросить совместную работу. Совместной работы там не получилось.
Тут была ситуация, когда человек мне неизвестен, его творчество — тоже, но мы его пустили на разогрев в Рязани в 2018 году. У человека вскружило голову, ему наобещали золотые горы, и он, видимо, слишком поверил в свои силы. И все, понеслось. С совместной песней я долго медлил, а он то ли обиделся, то ли посчитал себя слишком крутым, и возгордился, был какой‑то хейт в мою сторону. Это еще увенчалось каким‑то диссом, что от электронного артиста вызывает умиление (смеется). Мне кажется, в этой сфере диссы должны быть какими‑то музыкально-электронными. А это был какой‑то полурэп (смеется).
И там прям слышно, что [присвоили себе чужое]! Я против копирования музыки. Даже в электронной музыке, если я беру какие‑то заимствования, я это никак не монетизирую. Бесплатно ты хоть что делай, хоть каверы каждый день на любого исполнителя пиши. А когда это приобретает серьезные обороты — договаривайся, плати отчисления! У меня на новом альбоме будет реворк трека Акулы «Такая любовь» — мы договорились с представителями, что я хочу использовать трек, видоизменив в нем что‑то. Мы пересобрали трек. Я буду платить отчисления за использование — тут все честно.
DEAD BLONDE: что это за проект и какое участие в нем принимает Давид
— Если ты решишь как‑то радикально изменить свой творческий метод и, например, захочешь делать баллады — не боишься, что твой слушатель и особенно посетитель твоих концертов этого не поймет?
— Так и будет. И у любого артиста так будет. Артист в первую очередь интересен своей подачей, образами, текстами, чем он и узнаваем. Представь, что тот же «Буерак» сейчас начнет рэп читать? Под трэповые биты. Во-первых, все обалдеют. Во-вторых, это не будет интересно их целевой аудитории, все отпишутся, скажут, что парни все, ку-ку. И со мной так будет. Если ты преподносишь какой‑то один вектор творчества, люди тебя за это и ценят, что ты такой один уникальный. Но у меня и здесь есть небольшая лазейка, потому что у меня есть много мультижанровых треков. Я делаю то одно, то другое, и это меня спасает от скуки и застревания в одном жанре и образе. Потому что, когда ты делаешь однообразную музыку, многим артистам это надоедает.
Представь, что есть шаблон, который у тебя работает. Это прямая бочка, рейв-синты, вся эта тематика. Но придумывать такое бесконечно, это нужно либо брать очень большие интервалы, чтобы восполнить мысленную энергию и придумать что‑то крутое, либо чтобы все время у тебя было какое‑то чередование. Я выбираю чередование, и в целом я так и двигаюсь в разных жанрах, что не дает мне закостенеть в одном. Это плюс.
— То есть ты не боишься?
— Да. Я это могу даже назвать не путями отхода, а творческими лазейками. Мы с Ариной в этом году сделали отдельный проект, сайд-проект, который называется DEAD BLONDE. Там девичий вокал, музыка не такая жесткая, как у меня, это немного другой взгляд на танцевальную музыку.
То, что мы пытаемся сделать, мне немного напоминает поп-культуру нулевых — женские голоса в электронике были золотым стандартом в то время. Плюс для музыканта, который пишет музыку, это очень интересный опыт. Когда я пишу свою музыку, у меня есть уже представление, какие‑то образы в голове. А тут ты переключаешься, как будто начинаешь играть за другого персонажа. Ты начинаешь придумывать и музыку, и какие‑то ходы, точки зрения вроде «а если бы это девочка пела».
Альбом DEAD BLONDE восприняли очень хорошо, несмотря на то что поддержка от медиа была нулевая. Сейчас там уже около миллиона прослушиваний, и в группе 50 тысяч человек. Для ноунеймовского сайд-проекта это очень хорошо.
— Каков твой масштаб участия в этом проекте?
— Я пишу музыку и иногда вношу коррективы в тексты. Плюс в целом у меня есть понимание, как это нужно исполнить, какие‑то референсы. А текстовая составляющая — это от Арины. Люди думают, что у меня просто есть какая‑то телка, которую я нашел, а она на волне моего хайпа что‑то со мной делает. Но Арина очень много помогает мне и в моем проекте, это человек, на чье мнение и музыкальные вкусы я могу положиться. Не всегда я с ней согласен, но это нормально, когда ты споришь в творческом процессе.
Есть какие‑то треки, которые она продавила на предыдущем альбоме. Мы выпустили, и они сработали. Это были такие общие идеи, музыка моя, но фильтруем мы ее вместе. Или тексты ее, но фильтруем мы их вместе. Такая вот работа напополам.
— Какой ее уровень участия в твоем творческом процессе?
— Это все получалось поступательно, начиная с того, что она сняла мне первый клип «Дура». Он довольно любительский, кустарный, но милый.
Когда у меня были первые концерты, Арина еще не выступала со мной, но помогала мне на билетах, стояла, контролировала. Потом я понял, что у человека есть голос и слух. Никто из нас не претендует на золотой голос России, но в целом есть люди, которые могут что‑то исполнить, и те, которые не могут. Арина может, и я стал подтягивать ее на бэк-вокал. Она снимала клипы, фотосессии, все это переросло в то, что у меня появилась идея, и нужна была девчонка, которая бы исполнила.
Постепенно я стал ее привлекать, и вот дошло до того, что мы уже вместе занимаемся какой‑то редактурой текстов GSPD. Некоторые тексты или куплеты — это вообще уже целиком ее придумки. Мы все делаем это постепенно, не так что «с сегодняшнего дня у нас будет петь девчонка!». Я с самого начала говорил, что GSPD — это электронный проект, я никогда не называл это группой, может, только случайно где‑то вылетало. Так же, как Scooter. Есть фронтмен и люди, которые вместе работают над проектом. Так и здесь. В проекте может участвовать несколько человек, я просто фронтмен и главное лицо. А принимать участие — я всегда горю такой мыслью: втащить кого‑то левого, чтобы люди даже не знали, кто это такой. Хочется кинуть девчонку на вокал, но именно с таким, как у евродансовых певиц из 1990-х. И хочется такое соединить с электронщиной.
— На передний план выставить и посмотреть, как это будет?
— Не на передний, а просто взять кого‑то с таким голосом и поработать. Это пока просто задумки, но когда‑нибудь, я думаю, это осуществится.
— Под вывеской GSPD?
— Да, конечно. DEAD BLONDE — это проект Арины. GSPD — это мой проект, где может быть все что угодно. И я хочу сделать такие эксперименты, чтобы моего голоса, например, вообще не было, — посмотреть, как люди на это отреагируют.
— А ты не боишься, что в таком случае ты запишешь какой‑то суперхит, который будет на первом месте в чартах, и ты станешь его заложником?
— Если я пойму, что кто‑то другой выстрелит под моим именем — да ради бога, я в этом смысле не ревностный человек. Если я знаю, что это моя музыка и мой вклад в культуру — пускай. Если взорвет девушка, и нужно будет только одно такое делать, я все равно буду делать и то и другое, только одно — для души, а другое — для денег.
— Ты собрал «Сибур-арену». Что дальше?
— Это сложный вопрос. Мы стали думать, куда выше-то прыгать. Был хороший вариант с СКК, но его снесли.
— Ледовый, может быть?
— Ледовый такой же. И «Юбилейный» такой же, чуть больше. В чем проблема: мы делаем дискотеки, нам нужно не сидячее пространство, а стоячее, танцпол. А танцполы плюс-минус везде одинаковые, это стандарт волейбольного/баскетбольного поля. Мы этого немного не ожидали, когда собирали «Сибур». Мы видим число максимальной вместимости — 7000 человек, ну круто. Анонсировали, и понимаем, что на танцпол там влезает на порядок меньше. 7000 — это вместимость при полной посадке, а когда ты делаешь сцену и отрезаешь сектора за сценой, получается около 6300. Из них мы собрали 5500 — это тоже неплохой результат. И из них 3800–4000 были на танцполе, но это был просто максимум.
Вариантов нет. Мы сейчас решили сделать два выступления в клубе «А2», потому что там танцпол 3500 человек и все могут вместиться. И с Москвой мы решили так сделать, у нас будет два «Адреналина» вместо «ВТБ-Арены». В Новосибирске, Екатеринбурге, Киеве — три концерта.
Вопрос не о том, что сейчас, а о том, что после этого. Я о нем думаю, и у меня пока нет ответов. Собирать везде стадионы, даже в провинции? Есть человек, который так уже делает, — Макс Корж. Но у него все-таки другой уровень медийности и другой уровень сборов, он может себе это позволить. А я оказался заложником того, что выступления в самом большом клубе города я перерос, а до стадионов в каждом городе я не дорос.
— Когда ты выходил из «Сибур-арены» после того, как ты ее собрал, ты видел, что напротив нее есть еще один стадион («Газпром-арена». — Прим. ред.). Не думал на его счет?
— Это, конечно, та цель, к которой нужно стремиться, но нужно здраво оценивать свои возможности и не заглядывать на пять лет вперед, а думать на один-два. И пока «Газпром-арена» мне неподвластна, конечно, но хотелось бы. Это же не просто начать продавать билеты и договориться, что я буду там выступать. Это большая техническая подготовка: такие вещи всегда остаются где‑то в бэкстейдже. Зритель их не видит, никто их не видит, кроме команды, которая занимается самим концертом.
Аренда «Сибур-арены» обошлась нам в 3,5 миллиона рублей. Мы привозили хороший свет, звук, сцену, большие экраны. «Газпром-арена» — наверное, за десятку. Пока у меня нет такой возможности, чтобы я на этапе подготовки вложил 10 миллионов, чтобы это отбивать. Ну будем стремиться, будем работать!