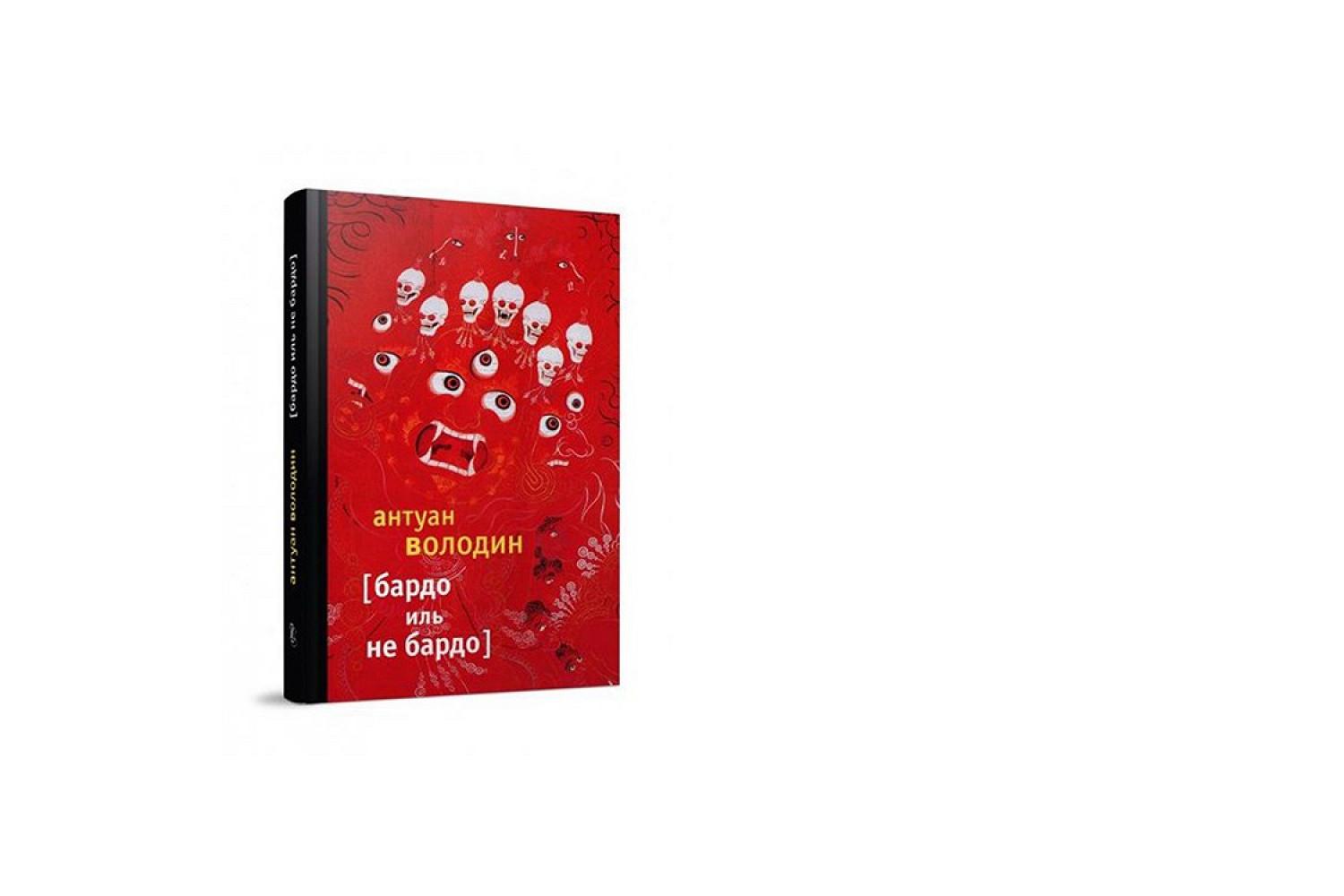Кто такой Антуан Володин
Антуан Володин — главный псевдоним писателя, известного во Франции еще и как Элли Кронауэр, Мануэла Дрегер и Лутц Бассман. Последний неоднократно переводился на русский: здесь особенно известен его роман-посткатастрофа «Орлы смердят» — о «банальности зла» и тотальных войнах, в которых нет дистанции между аварийной ситуацией и всеобщим истреблением. Первая книга собственно Володина вышла в России в 2008-м — и теперь благодаря неутомимости переводчика Валерия Кислова дошла очередь до «Бардо иль не Бардо» (2004).
Псевдонимы этого писателя (а это не только имена, но и свои собственные годы рождения и обстоятельства биографии) — не повод для душевных перевоплощений, но указание на условность авторства как такового. В мире Антуана Володина нет всезнающего автора, нет даже автора как стилистического центра «полифонии»: тут правят герои-маргиналы, которые, смешивая в немыслимых пропорциях реальность и бред, мечту и действие, усилие и намерение, неожиданно оказываются свидетелями смысла жизни. В мире прозы Володина нет концепций — только разные формулы инаковости: безумцы и поэты, анархисты и буддисты, бродяги и философы. И счастье в его романах — не взаимопонимание людей разных характеров, а возможность для героя оказаться всем: он был безумцем, но стал и философом, и весь мир, прекрасный и пугающий, обратился к нему.
Кроме того, Антуан Володин — переводчик современной русской литературы: в его послужном списке — братья Стругацкие и Эдуард Лимонов, Виктория Токарева и Фридрих Незнанский. При этом он уверяет, что хотя у него русские корни, родной язык писателя — французский. Быть может, все не так и на самом деле Володин — собрат Андрея Макина, литературный билингв. Но вряд ли человечество это когда-либо узнает: язык для Володина — только одно из средств проникнуть в сознание героев, а не часть их истории.
О чем он пишет
Антуан Володин рассказывает о маргиналах в маргинальных ситуациях: джунгли бытия, в которых бродят посткатастрофические дикари, с трудом владеющие собственными чувствами и не понимающие, в каком событии они оказались. Это не история характеров внутри сценария, а скорее история сильных чувств и проницательных мыслей внутри пульсирующего призрачного бытия, внутри экзотического забвения. Герои Володина, от узников концлагерей до наивных путешественников, не могут помнить — они могут только опомниться в вечности или забыться во времени.
Не нужно говорить, насколько это в новинку для французской литературы, казалось бы перепробовавшей все способы описывать внутреннюю жизнь. Во французской культуре экзотика джунглей долго допускалась только как продолжение Просвещения, которому дикарь нужен был как наивный и невинный человек, инспектирующий моральное содержание цивилизации. В конце XVIII века Анкетиль-Дюперрон путешествовал в Персию и Индию, пытаясь найти следы Зороастра (Заратустры) как первого просветителя. Любовь к экзотике Артюра Рембо или Поля Гогена — попытка прорваться к вечности через завесы культур, но не исследование того, как эта вечность устроена.

В ХХ веке французские антропологи, противостоя велеречию ультраправых политиков, с их большими словами и пропагандистскими мифами, решили показать, насколько не универсальны все эти представления о любви, величии или красоте. Можно вспомнить Социологический колледж и исследования Жоржа Батая о «проклятой доле» жертвоприношения, а также структурализм Леви-Стросса и религиоведение Рене Жирара. Бриколаж (соединение несовместимых элементов), потлач (необоснованная трата), медиатор (посредник между мирами богов и людей) и множество других терминов вошли в социальную теорию, но только благодаря Антуану Володину они попали и в художественный канон. Его проза — отличное введение во французскую антропологию: понятия, которые мы поневоле вписываем в наш бытовой опыт, у Володина оказываются точно на своем месте.
Как он пишет
Сам Антуан Володин называет свое письмо постэкзотизмом. Это странное слово вовсе не означает, что экзотика утратила свое очарование: напротив, теперь экзотическим становится совершенно все — и окружающий мир, и собственная речь, и частные переживания. Если раньше взгляд на дальние континенты, религии и культуры принадлежал человеку, точно знающему, что «внушено природой», а что «достижения цивилизации», то героям Володина это неизвестно. Один из важнейших приемов этого писателя — угадывание того, ощущает ли персонаж иллюзорность мира, его непостижимость, тревожность, смертность.
В привычном нам романном жанре такой ход был невозможен: если автор проникал в сознание героя, то для того, чтобы по случайным приметам определить его характер или развитие событий, разгадать ребус его души, но не его отношение к тем вещам, к которым имел право относиться только автор. В традиционном романе автор ставит вопросы о жизни и смерти сам, тогда как персонажи — всего лишь участники большого эксперимента. У Володина эти вопросы формулируют как раз герои — к удивлению автора и читателя.



Антуан Володин следует завету Ролана Барта: тот считал, что если античность научила относиться к природе как к одной из тем обсуждения, а не как к системе фатальных норм, то столь же легкомысленно следует воспринимать и культуру. Но Барт все же считал, что человек вполне властен над своими мыслями, чувствами и самим видением природы. Володин на каждой странице доказывает прямо противоположное: идея может принадлежать не тебе, а Будде, или случайному иероглифу, или намеку, или риску бытия. В его романах бытие не распознается, пусть даже в чудесном устройстве счастливых совпадений, но переживается как полностью зависящее от случая и даже бреда. Если Велимир Хлебников уверял, что вращается Земля или нет, зависит от того, уложится ли в строчку слово, то Антуан Володин полагает, что само существование мира зависит от того, хватит ли дыхания на реплику, получится ли досмотреть кошмарное сновидение или правильно ли мы пересечемся с собеседником взглядами. Представим себе, что «И грянул гром» Брэдбери — не притча, а единственное понимание происходящих событий, мыслей, грез и желаний, представим, что риск навсегда испортить историю настолько роковой, что зависит от нашего сна, бреда и бормотания не меньше, чем от наших поступков, — и мы получим мир Антуана Володина.
Его стиль — внутренний монолог, но непривычного рода. Это не откровенное признание, как у героев Достоевского, и не поток сознания, как у Джойса. В этом монологе нет ни тени комизма, скандала, исповедальности — наоборот, это постоянное исследование собственного оцепенения, собственной невозможности войти в готовую роль; речь человека, который пытается опомниться от болевого шока, или прикован к постели, или видит перед собой джунгли большого города.
Письмо Володина одновременно напоминает Франца Кафку и Андрея Платонова: оба великих писателя открыли — каждый со своей стороны, — как выпадение из привычных форм существования оказывается чистой материей страдания, чистым опытом лишенности. У Володина это страдание видно не в сложности конструкций, не в сбивчивой речи, не в колдовстве формул и не в удивлении перед гибелью природы, но в простых, часто жаргонных репликах. В переводе этот своего рода рэп в прозе воспроизвести труднее всего, и «Бардо иль не Бардо» в версии Кислова — важнейший шаг (вопреки Теодору Адорно, осуждавшему «жаргон подлинности») к освоению жаргона не как выражения характера, но как первого прикосновения к бытию.
Роман «Бардо или не Бардо»
Бардо — буддистское посмертное состояние, которое вместе переживают герои. В этом романе Володин решил свести в единый круг наиболее ярких маргиналов: революционер и монах, путешественник и наемник, герои и полугерои отличаются здесь тем, что они яркие. Книга начинается не с возможной, а с настоящей гибели, и потому не призрачное движение в экзотическом мире чужих переживаний, но возможность заявить о своей личности даже под маской — главное содержание произведения.
При всей головокружительности приключений, перемещений по рельсам железной дороги и по путям сознания, при детективных поворотах на каждом шагу «Бардо иль не Бардо» — роман об оживших масках, о том, как можно намекнуть на себя, хотя знаешь, что ничего, кроме маски, у тебя не осталось. Маски носят все — не только потому, что весь мир лицедействует, но и оттого что мы привыкли к себе. И роман как раз учит ценить непривычное, как бы банально ни звучали эти слова. Непривычны и мы для себя, и сама жизнь — для нас. Ни одна книга не оставляет такого ощущения живого развития событий, свободного от сюжетных штампов и игры в догадки, как «Бардо или не Бардо». Даже предугадывая развитие событий, читатель может не столько восхититься собственной проницательностью, сколько понять, как много жизни даже в самых невероятных перипетиях.