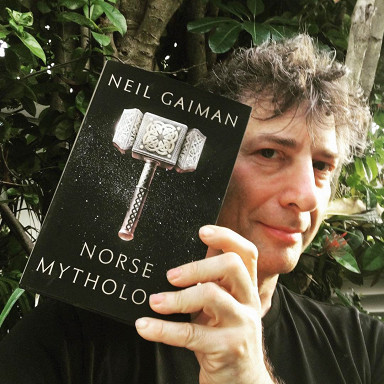— У вас множество ролей — от писательницы до «иконы феминизма». А как вы себя определяете?
— Я считаю себя в первую очередь писательницей. Но это не значит, что другие вещи, которые я делаю, не важны для меня. В некотором смысле все это связано. Я смогла начать говорить о том, что меня волнует — в частности, о феминизме, — потому что у меня как у писательницы появилась платформа для высказывания. А мое призвание — литература, это то, для чего я предназначена. Литература — моя первая любовь.
— А когда вы выступаете с лекциями, пишете эссе о феминизме, расизме и других вопросах — это ваш долг как публичной фигуры?
— Нет, нет. Я говорю о том, о чем хочу. Мне не кажется, что писатель обязан говорить о социальных вопросах. У людей бывают разные интересы, разные характеры. Так что для меня это не долг. Я высказываюсь, потому что всегда интересовалась политикой: у нас в семье мы все время разговаривали о нигерийской политике. Вот я и выросла человеком, которому не все равно, что происходит в мире. Но я говорю не потому, что люди ждут этого от меня, я говорю, когда что‑то меня трогает, когда я серьезно задета.
— А ваш семейный интерес к политике — это обычное дело в Нигерии или ваша семья отличалась?
— Да! Я иногда шучу, что есть одна вещь, в которой все нигерийцы хороши, — это желание жаловаться на политику, на правительство, на коррупцию. Что интересно, это относится к людям всех классов, всех религий. Многие люди вовлечены в политику, у них есть мнение обо всем — не обязательно основанные на фактах, конечно. (смеется) Только замешкаешься — и кто‑то уже завел разговор о политике. Собираетесь поужинать с друзьями, а ужин оборачивается дебатами.
Я росла в университетском сообществе, и разница была в том, что там был акцент на самообразовании. Мои родители, например, поощряли наш интерес к газетам. Мой отец каждый день получал газету по почте, и, прочитав ее, они с мамой оставляли газету мне и моим братьям. Думаю, это помогает понять, как устроен мир.
— Одну из ваших героинь в книге спрашивают о любимых писателях — и она вспоминает Тургенева. Вы, я знаю, тоже его любите. Что вам нравится в его книгах — и, возможно, в книгах других русских авторов?
— Я особенно люблю «Отцов и детей». Мне нравится острота его чувств. В нем есть сложность, которая меня очень привлекает. Еще я, конечно, люблю Толстого. А вот Достоевский, к сожалению, мне не по душе. Наверное, не стоит говорить об этом в интервью русскому журналисту (смеется).
— Вы как‑то сказали, что чувствуете «осторожный оптимизм» в отношении движения #metoo. Почему так и изменилось ли ваше отношение за последние месяцы?
— Если смотреть на историю женского движения, движения за справедливость, — она никогда не была прямой линией. Мы постоянно делаем два шага вперед, а потом шаг назад.
Так что моя осторожность происходит из понимания истории. Но я оптимистична, потому что я думаю, что подобного в мире еще не случалось: женские истории наконец-то воспринимаются всерьез. Я в первую очередь имею в виду рассказы о мужских нападениях. Думаю, что всего 10–15 лет назад, когда женщина рассказывала, как подверглась сексуальному насилию или домогательствам, первой реакцией людей часто было сомнение. Сейчас все изменилось, теперь первая реакция людей — скорее поверить ей. Это действительно важный сдвиг в динамике общества, он вселяет в меня надежду.
А еще я надеюсь, что движение #metoo достигнет точки, в которой сможет стать более гибким и в которой мы сможем различать различные формы нападения и харассмента. Потому что сейчас этого нет. В некотором смысле это понятно: на раннем этапе движения за справедливость просто не могут позволить себе быть гибкими. В целом мне кажется, что сдвиг произошел, и эти перемены не развернуть — но я также надеюсь, что движение станет более гибким, разумным и более открытым к диалогу.
— Со стороны вы кажетесь очень спокойным и уравновешенным человеком. Вы когда‑нибудь злитесь? Если да, то что вас разозлило в последнее время?
— О, я часто злюсь! (смеется) Меня очень злит несправедливость, неравенство. Когда я в Нигерии, меня злит, что нигерийское правительство пренебрегает многими гражданами. Здесь, в США, я живу в очень хорошем районе, но стоит проехать шестнадцать минут — и попадашь в такой бедный, заброшенный район, это просто ужасно. Меня злит, что многие американцы, заболев, не идут к врачу, потому что не могут себе этого позволить — а это ведь самая богатая страна в мире. И, конечно, меня бесит сексизм.
Но понимаете, я люблю поспорить. Дело не в том, что я не злюсь, когда говорю о феминизме, дело в том, что злость не обязательно полезна для моей точки зрения.
— Отличная стратегия. Еще вы говорили, что сексизм злит вас больше, чем расизм, потому что люди, которые понимают проблему расизма, часто не понимают проблему сексизма. Эта ситуация изменилась?
— Не-а. Впрочем, я имела в виду не всех людей вообще, а свой круг. Моя семья, мои друзья, черные и белые — все понимают, что такое расизм. Но я обнаружила, что люди просят меня объяснить, почему, например, какое‑то высказывание — сексистское. Это происходит постоянно. Несколько дней назад я разговаривала с одним знакомым о женщинах-кандидатках от Демократической партии США. Мы говорили об Элизабет Уоррен, и речь зашла о статье в «Нью-Йорк Таймс» о том, симпатична ли она. Мне кажется нелепым, что критерий привлекательности применяется только к женщинам-кандидаткам. И собеседник мне говорит: «Ну хорошо, но почему это сексизм?» И я подумала, что есть вещи, которые кажутся мне элементарными, но их нужно объяснять. И это утомительно.
В Нигерии я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые отрицают все, что отдаленно связано с сексизмом. Они говорят: ну смотри, вот есть женщина в руководящей позиции — так как ты можешь говорить, что у женщин нет власти? Люди хотят упростить проблему до самого элементарного уровня, на котором им кажется, что они правы. И, увязая в упрощениях, вы на самом деле упускаете вещи, о которых стоит говорить, когда дело доходит до сексизма. Так что я часто чувствую себя одинокой и озадаченной, потому что мне все это кажется таким очевидным.
— Неделю назад я в одном разговоре упомянул, что считаю себя феминистом. Моя собеседница немедленно ответила, что мужчины не могут назвать себя феминистами. Вы, с другой стороны, говорите, что «феминист — это мужчина или женщина, которые говорят: «Да, в наши дни есть проблемы, связанные с гендером, и нам следует их исправить». Так что, мужчины могут быть феминистами?
— Да. Но я понимаю и женщин, которые говорят, что мужчины феминистами быть не могут. Потому что многие из них знают мужчин, которые называют себя феминистами, но действием показывают, что таковыми не являются. Из‑за этого многим женщинам кажется, что мужчины просто неспособны быть феминистами.
Я с этим не согласна. В первую очередь потому, что считаю, что не нужно лично страдать от несправедливости, чтобы посвятить себя ее преодолению. То же самое касается, к примеру, расы: я думаю, что все должны быть антирасистами, а не только чернокожие. На самом деле, если бы побольше людей были против расизма, то и проблемы этой не существовало бы.
И еще у меня своего рода прагматичное отношение. Понимаете, миром управляют мужчины. Я думаю, что это неправильно, потому что половина людей в мире — на самом деле, даже чуть больше половины — женщины. Выходит, что женщины должны участвовать в управлении миром, а сейчас у власти в основном мужчины. И потому на этих мужчинах лежит ответственность.
А еще мы живем в мире, где мужчины слушают мужчин. И если мы хотим избавиться от сексизма, мужчины тоже должны над этим работать.
— Полгода назад я разговаривал с вашим коллегой, писателем Вьет Тхань Нгуеном, и он рассказал, что ведет электронную таблицу, чтобы отслеживать разнообразие своего чтения, убеждаться, что он, скажем, читает не только истории белых гетеросексуальных мужчин. Есть ли у вас, увлеченной читательницы, стратегия для того, чтобы ваше чтение было разнообразным?
— А мне не нужна стратегия. Я читаю все на свете, все, кроме разве что фантастики, ее я не люблю. И я была такой с детства, поэтому идея о том, что человек должен разнообразить свое чтение, ко мне вообще неприменима. Некоторые из моих любимых писателей — белые мужчины, я читаю книги авторов из Азии, Латинской Америки, Африки и Европы. Меня, на самом деле, интересует только человеческая история, и не важно, откуда она исходит. Если я чувствую связь с историей, то я устанавливаю эту связь. И для меня странными кажутся как раз люди, которые читают исключительно белых мужчин.
— Вы недолюбливаете социальные сети, но у вас при этом один из самых прекрасных инстаграм-аккаунтов среди писателей. Почему вы сделали исключение для инстаграма?
— (Смеется.) Если по-честному, то так вышло, потому что моя племянница — ей двадцать один, она очень классная — сказала мне: «Тетя, тебе пора завести инстаграм. Никто больше не пользуется фейсбуком». У меня есть страничка в фейсбуке, на которую мой менеджер выкладывает всякие вещи. И племянница спросила меня, когда будет следующая встреча, а я говорю — посмотри на фейсбуке. И она мне отвечает: «Теть, серьезно?»
Так что я просто хотела произвести впечатление на племянницу. А еще меня всегда интересовала мода, и я хотела поддержать нигерийских дизайнеров, привлечь к ним внимание. Я и так носила много их вещей, и решила, что это хороший повод. Я фотографируюсь в вещах нигерийских дизайнеров и выкладываю в инстаграм, чтобы люди о них узнали. Так вот все и началось.
Вообще социальные сети — очень двойственная вещь, даже инстаграм. Я смотрю на вещи, которые один мой юный родственник выкладывает в инстаграме, и думаю, что это что‑то ненастоящее и глупое. Фотографии, которыми восхищаются молодые люди, бывают настолько нереалистичными — люди уже на людей не похожи, скорее на кукол или что‑то в этом роде. И я не знаю, как это влияет на психику молодых людей. Так что у меня до сих пор смешанные чувства насчет социальных сетей. Есть вещи, которые я никогда не буду делать в своем инстаграме, — например, я никогда не буду делать такие вылизанные фотографии. Они ненастоящие.
— Я хотел задать вопрос о вашей маленькой дочери: есть что‑то, чему вы у нее научились?
— Очень многому, очень. Материнство меняет всю перспективу. Мне нравится, когда она видит что‑то и говорит: «Это забавно» — а я никогда не считала это забавным, но мне вдруг тоже становится смешно. Или когда она называет меня негодницей (смеется). Два дня назад она зашла ко мне в комнату и увидела, что у моей кровати лежит шоколадка. И она посмотрела на меня и говорит: «Шалунишка!» Меня это ужасно развеселило. Откуда она вообще знала, что мне не положено есть шоколад в кровати?
Я обожаю свою дочь, обожаю ее любопытство. Как она радуется, когда видит собаку, или белку, или бабочку. В этом есть что‑то прекрасное, потому что мы забываем, как радоваться простым вещам. А она напоминает мне об этом, и я становлюсь счастливее.