
— С вашим «романсом» «Памяти памяти» вы были номинированы на все значительные литературные премии, получили на него широкую прессу и читательские отклики, его тираж сильно выше среднего и продолжает распродаваться. И вот теперь — «Большая книга». Как вы думаете, с чем связан его успех? Почему ваш инструмент так сыграл?
— Я не знаю. Правда, не знаю. Вот смотрите: средний тираж моих книжек — неважно, стихи это или cтатьи — тысяча экземпляров. Ну полторы, если повезет. Это очень немного, и это кажется мне нормальным и правильным: у стихов ограниченное число читателей — ну и тип текста, который я имею в виду, когда пишу, в общем-то не подразумевает больших тиражей. А «Памяти памяти» книжка довольно бескомпромиссная: она поначалу и вовсе никакого читателя в виду не имела, все задачи, что я себе ставила, — они были внутренние и очень специального образца. Я имела в виду выстроить что-то вроде системы хранения, структуру, где можно было бы разместить некоторое количество дорогих мне вещей так, чтобы им было хорошо и просторно в одном общем пространстве. Там много того, что можно воспринимать как излишество, вообще всего много — сюжетов, рассуждений, предметов, цитат, страниц. Если рассматривать чтение как перемещение из пункта А в пункт Б, здесь оно явно затруднено: вместо железной дороги — какой-то лабиринт, который никак не получается пройти поскорей и выбраться с той стороны. И естественная читательская реакция — недоумение и негодование: зачем это все? Почему нельзя просто рассказать свою историю — так, чтобы сразу было ясно, кто кого родил и на ком женился? При чем тут Мандельштам и Шарлотта Саломон (немецкая художница, убитая в Освенциме. — Прим. ред.)?
То, что при этом книжку читают и широко, — очень странно. Она как бы выскочила за пределы, которые я сама ей обозначила, она нравится (и не нравится) самым разным и неожиданным людям. Их гораздо больше, чем можно было ожидать, и я не могу этому не радоваться, потому что именно здесь мне важно было не просто развернуть эту многокамерную, сложноустроенную конструкцию со всеми ее дополнительными ветками, системами сравнений и аналогий — но и сделать так, чтобы в лабиринте захотелось поселиться. Такие люди — те, кто отрывается от чтения, чтобы проделать собственные коридоры, чтобы посмотреть в интернете про «Трильби» или Франческу Вудман, — есть, и их много. Я предположила бы, что дело в акустике: все, что имеет отношение к прошлому, к памяти, к сложным отношениям между ними, сегодня имеет особенный статус.
По нему ходят туда-сюда парады проекций, оно поставляет модели для сравнений и образцы для подражания. Право на место в прошлом стало привилегией, конкурентным преимуществом — и разговор о том, что забывается и что остается, кажется нужным.
— А для чего нам нужно наше сегодня, если мы все еще живем прошлым? И можем ли мы вообще идти спиной вперед в будущее, нет ли в этом опасности?
— Этот способ движения в будущее описан, вы помните, Вальтером Беньямином: его знаменитый ангел истории движется именно так, спиной вперед, лик обращен назад, в прошлое, к арене непрерывной катастрофы, от которой нельзя отвернуться — и невозможно задержаться, чтобы что-то восстановить, слишком сильно дует ветер. И он говорит дальше, что эти вот громоздящиеся развалины и есть то, что отсюда кажется нам прогрессом.
— Изменилась ли оптика с 1940 года, времени, когда Беньямин писал свой текст?
— Да, и это интересно. Прогресс — и как направление общей надежды, и как слово из повседневного набора — незаметно куда-то подевался, эта идея больше не воодушевляет. Хотя на самом-то деле есть некоторые основания для оптимизма, правда? Придумываются новые лекарства, нравы умягчены, продолжительность жизни выросла, существенная часть человечества ест мясо каждый день. Нет только радости, которую все это должно было бы приносить, и общественная чувствительность обострена настолько, что катастрофическими кажутся события, которые сто лет назад можно было бы не заметить. Оно бы и прекрасно: у нас, нынешних, нулевая толерантность к насилию, и даже государство по умолчанию признает это нормой — и вместо того чтобы лязгать гусеницами и настаивать на своем праве это насилие применять, начинает объясняться с общественностью. Худо другое — нет работающего словаря для описания изменившейся ситуации. Все прогнозы, аналогии, смысловые ходы не выработаны, а получены в наследство — и в итоге мы сами уговариваем реальность соответствовать худшим нашим ожиданиям: если долго обещать себе тридцать седьмой год, он может пойти навстречу.
— Как думаете, как будут вспоминать 2018 год через пятьдесят или сто лет? Вспомнят ли (как вспомнили вы на церемонии «Большой книги») Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова или, к примеру, Марш матерей и дело «Нового величия» — или история будет переписана, а события и эти люди вытеснены в зону умолчания?
— Правду сказать, для меня это не вопрос первой необходимости — мы можем быть уверены, что доля нашего присутствия в учебниках истории со временем будет становиться все меньше и меньше. Сто лет, потом двести, потом пятьсот — и от эпохи останется тот же набор развалин. Сперва, вблизи, события расплываются, потом начинают фокусироваться, собираются в отчетливую картинку, а потом расплываются окончательно, до полной неразличимости. Сейчас это начинает происходить с двадцатым веком: кто был Ленин? Когда воевали? С кем? Лев Рубинштейн рассказывает, как в метро его спрашивали, воевал ли он — и не на Первой ли мировой. То, что помнится дольше прочего, это эпохи экстремального опыта, невиданных бед — я нашему времени такой судьбы не хочу. Ну и у меня сложные отношения с учебниками, мне интересны лишние вещи: какое-нибудь зеркальце с пластмассовой крышкой, невесть почему пережившее всех своих хозяев, или карандашная записка «Звонила мама, будет в девять».
Другое дело, что и Сенцов, и те, за кого он держал голодовку, и обвиняемые по делу «Седьмой студии» находятся в зоне умолчания не когда-то, через сто лет, а сейчас: они как бы вытеснены на поля, за скобки нормальной человеческой жизни. Вот тут у нас территория повседневного со своими, довольно уютными, проблемами: авиакомпания снизила нормы для ручной клади, в городе пробки, на Брейгеля очередь. А на горизонте сознания находится зона общей беды, как бы не связанная с этими штуками: это такой наш черный угол, место ужаса и прозрения, где мы вспоминаем, как все обстоит на самом деле. И время от времени мы к ней обращаемся, а потом с облегчением возвращаемся к своей ежедневности. Вот это мне кажется важным — помнить, что это не две разные территории, а одна, общая одновременность, что все это происходит параллельно, вот сейчас, между словом и словом.

— Сейчас «Памяти памяти» вышла по-немецки, ее уже переводят в 12 странах, причем это делают издательства New Directions и Fitzcarraldo, которые крайне редко интересуются русскоязычными авторами и нашим рынком. Как вы думаете, а с чем связан такой успех книги на международном рынке?
— Понятия не имею, правду сказать; скорее всего, это простая удача. Интересно другое: что читательские реакции в России и в Германии устроены одинаково — и логика приятия, и логика неприятия; и хвалят, и ругают, в общем, за одно и то же. И это замечательно; я хотела бы осторожно надеяться, что моя книжка — часть разговора, который разворачивается в смысловом пространстве, где национальный опыт не абсолютизируется и не экзотизируется. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы «Памяти памяти» читали как отчет о выживании семьи в экстремальных условиях: и потому, что семья была самая обыкновенная, и потому, что эта русско-советская обыкновенность мало чем отличается для меня от обыкновенности австрийской или британской. Собственно, это и было для меня важно: общая сетка, не признающая государственных границ. И уже внутри нее — параллельное движение (и распад) жизненных историй, возникновение невольных рифм, которые сами не знают, чему они соответствуют, прекрасная и страшная одновременность всего — которая все проясняет и ничего не спасает.
— Зависит ли успех — не обязательно в коммерческом плане — романа от издательства, в котором он выходил? И насколько сегодня выбор издателя (и издательства) — это сознательное политическое решение?
— Да, конечно. Не знаю, как насчет коммерческого успеха — но выбор издателя для меня важен, и особенной разницы между политическим и эстетическим тут нет: то, что у «Нового издательства» прекрасный книжный дизайн (лучший в России, на мой взгляд), и то, что они издают Зебальда, и Дашевского, и комментарии Долинина к «Дару», очень логично сочетается с тем, что Андрей Курилкин делает сайт InLiberty, и это важная площадка для дискуссий в общественном поле. И то, что Илья Данишевский (руководитель проекта «Ангедония в АСТ» — Прим. ред.) героически издает в рамках коммерческого издательства стихи, эссеистику, другую, странную прозу, внятно соотносится с тем, что он издавал и книгу Елены Рачевой о 58-й статье, и сборник интервью с диссидентами, подготовленный «Кольтой», и тексты Павленского. Так что выбора особенного нет: существует поле, в котором мне хочется находиться, и обложки, соседством с которыми я горжусь и радуюсь.
— До этого у Данишевского выходило ваше избранное «Против лирики», сейчас у него же — эссеистика «Против нелюбви». Как вы разделяете идентичность поэта, прозаика, эссеиста и философа — и разделяете ли?
— Если речь идет обо мне — дело в том, что тут нечего разделять, я не ощущаю себя ни прозаиком, ни эссеистом, ни уж точно философом (ни компетенций, ни претензий этого рода у меня нет). Есть другие идентичности, которые значат для меня больше и занимают сильнее: то, что я женщина, например, и то, что я мать своего ребенка. Но я достаточно долго писала стихи, чтобы считать это дело чем-то вроде горлышка воронки: такого места, где все, что знаешь о себе и своих возможностях, предельно суживается, и приходится согласиться с тем, что да, я — вот это. Что такое вот это — другой вопрос. Стихи ведь, помимо всего прочего, можно рассматривать и как навык безответственного думанья — ты можешь сопрягать свои далековатые идеи, исходя из логики, которую не надо объяснять или обосновывать, был бы результат, «звуки райские».
Поэтому очень полезно бывает завести себе какое-то количество твердых параллельных занятий — делать другие вещи и стараться делать их хорошо. И тогда идентичности начинают держаться друг за друга, становятся чем-то вроде каркаса, не дающего всей конструкции расползтись.
— Название одному из предыдущих сборников — «Один, не один, не я» — придумал Григорий Дашевский, а почему нынешний вы решили назвать «Против нелюбви»? Не было ли мысли о том, что читатель, пришедший в книжный, может решить, будто вы вступаете в диалог со Звягинцевым и его фильмом?
— Вы знаете, про Звягинцева я тут не думала совсем: эссе, название которого стало названием книжки, написано лет пять назад, но его нехитрый вывод (то, что на предмет твоего письма нужно смотреть глазами любви, что разборчивый взгляд недоброжелательного наблюдателя — это не лучший способ понимания) продолжает для меня работать.
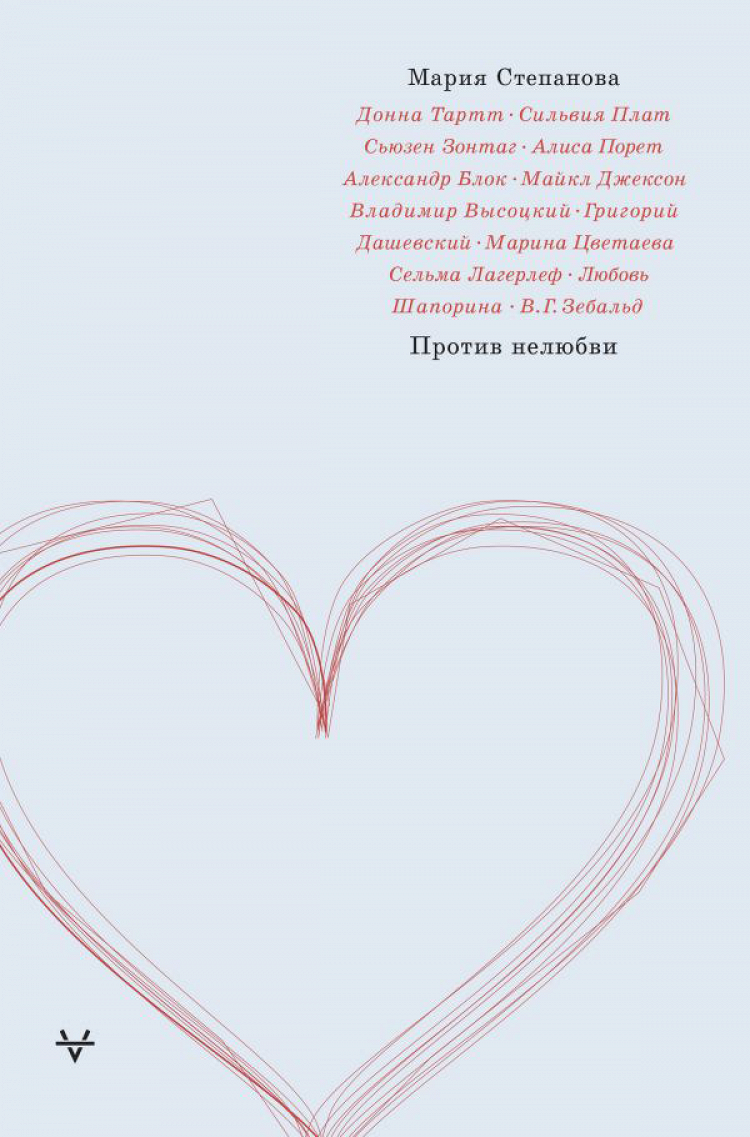
— Александр Блок, Донна Тартт, Григорий Дашевский, Майкл Джексон, Любовь Шапорина, Сильвия Плат, Зебальд, Владимир Высоцкий, Алиса Порет — не самый очевидный выбор персон. По какому принципу вы отбирали героев для книги?
— «Против нелюбви» — сборник текстов, писавшихся в разное время, по разным поводам, но объединенных вот этой самой любовью. Это портреты людей, способ существования которых (или способ письма, без разницы) по какой-то причине кажется мне образцовым, эмблематическим — и хочется понять, как у них это устроено, увидеть метод, логику, стоящую за последовательностью решений и отказов. Вот у меня есть такой внутричерепной театрик, где что-то происходит, и эти люди в нем на постоянных ролях, я о них помню и думаю. Вместе они составляют, конечно, странноватый ряд — но не бессмысленный.
— В эссе «Последний герой» вы говорите об эффекте Зонтаг, которая была публичным интеллектуалом, красавицей и — одновременно — автором сложных текстов. И говорите о том, что ее часто упрекали в эксплуатации внешности. А насколько в реалиях современного мира женская красота помогает и/или мешает автору?
— Тут интересно, что мы сразу себя ограничиваем женской красотой: а почему не мужской? Сорокина или Сашу Соколова, признанных красавцев, вряд ли будут спрашивать о том, помогла ли внешность рецепции их текстов. Мне кажется, это надо сформулировать иначе: почему, чтобы текст читался, требуются какие-то вкусовые добавки: красота, обаяние, умение размахивать руками и разговаривать о чем-то, тексту постороннем? И есть ли какие-то способы без этого обойтись?..

— В предыдущем интервью «Афише Daily» вы сказали: «Для России проза — та, которая получает литературные премии, обозревается на сайте «Медуза» и в журналах для плавающих и путешествующих, все вот эти толстые романы о русской истории и ужасах протестного движения — по-прежнему остается инструментом познания действительности». Какую картину литературы противопоставляет этому «Кольта» (Степанова — главный редактор Colta. — Прим. ред.) и, скажем, журнал «Воздух»? Может ли сегодня медиа формировать читательский вкус?
— Может, конечно, и сегодня, и всегда — вопрос скорее в том, что это за медиа и сколько у него читателей. При этом частный канал в Telegram читает иногда больше народу, чем заходит на сайт литературного журнала. Времена, когда большие издания снисходительно воспитывали чей-то вкус, сегодня — как времена Веспасиана; и мне это нравится и кажется правильным. Вот «Воздух» и «Кольта» — они заняты одним примерно сегментом литературного поля, но картины, которые они формируют, достаточно разные. А рядом есть еще «Носорог», например, и это еще один способ видеть ту же поляну; авторы, которых мы публикуем или обсуждаем, часто совпадают — но и разница очень ощутима. Я была бы счастлива, если бы таких изданий было гораздо больше; это одна из серьезных проблем нашего литературного устройства: сайты, премии, издательства, если они работают достаточно долго, как бы стягивают пространство на себя, начинают казаться неотъемлемой частью ландшафта: словно им нет ни сноса, ни альтернативы. Может быть, поэтому все новые проекты наперечет — но зато их гораздо видней.
— Недавно мы разговаривали с Линор Горалик, и она пересказала мне ваш разговор, когда вы посоветовали ей думать о том, как она будет жить после завершения романа «Все, способные дышать дыхание». А вы знаете, как вы будете жить после «Памяти памяти», который, можно сказать, ваш opus magnum? Планируете ли еще работать с большой формой?
— Я еще не знаю! У меня сейчас все ощущения человека, который добрался до своего пункта Б, вышел из трамвая, трамвай уехал, а ты все еще держишься за уже несуществующие поручни. Вот я все еще додумываю какие-то огрызки мыслей из той книжки, ну и пытаюсь приноровиться к жизни, в которой у меня нет отложенной задачи. Это целое занятие: раньше я все время заглядывалась вперед, на необходимость когда-нибудь собрать бумаги, разобраться в историях, написать о семье. А теперь я вроде как сама себе хозяйка, и это не самое уютное чувство. Видимо, придется завести себе новый источник тревоги — при работающем моторе живется гораздо отчетливей.


