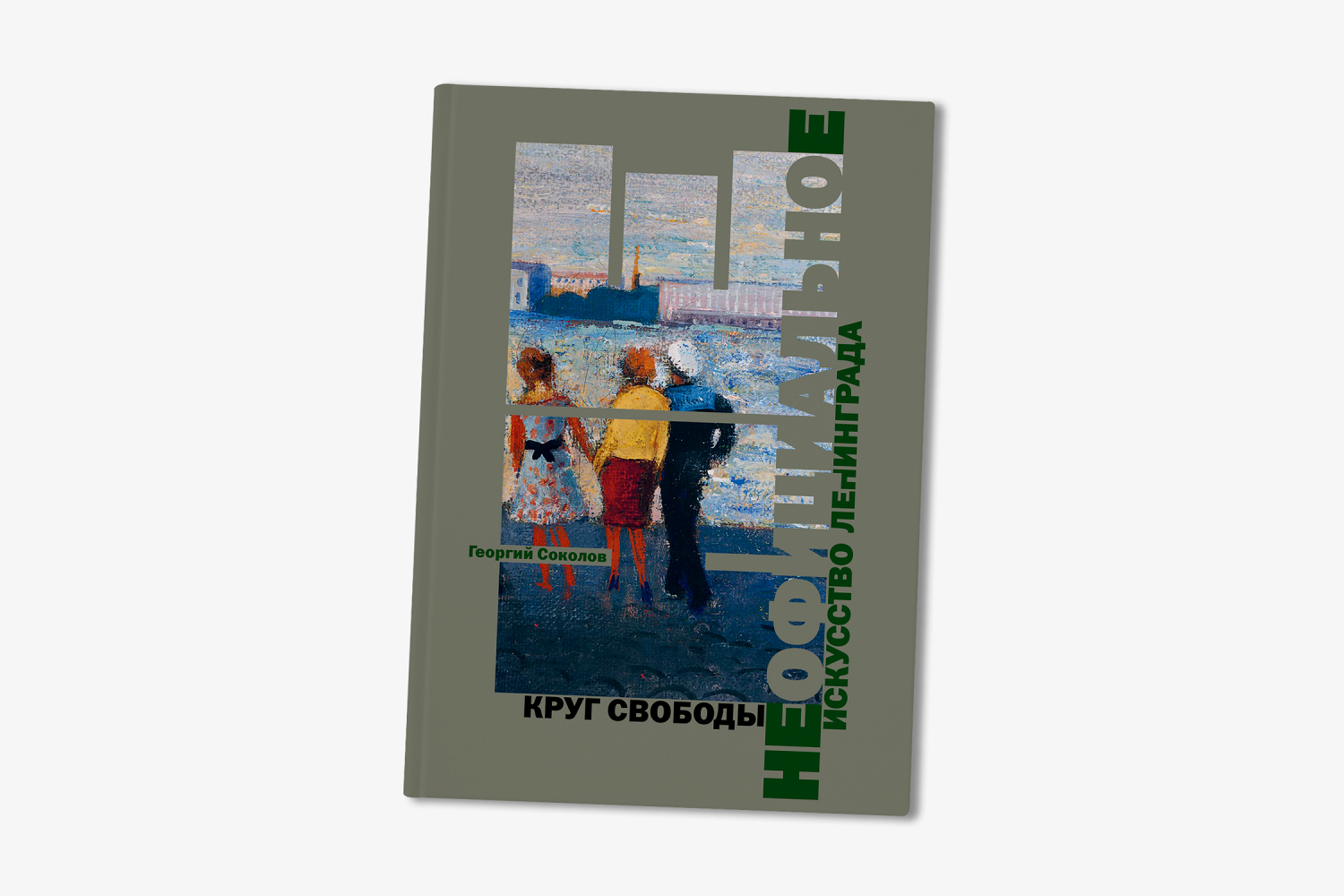Нонконформистское выставочное воодушевление 1974–1975 годов всколыхнуло, задело, привело в движение и зрителей — тех, кто в этой новой хрупкой системе оказывался «по другую сторону». Они активно посещали разрешенные выставки, оставляли отзывы, свидетельствующие о внимательном, вдумчивом отношении к новому для них искусству. Но некоторые из зрителей, проникаясь настоящей любовью к увиденному, двигались дальше. Результатом стало возникновение совершенно особого «сообщества» — коллекционеров ленинградского неофициального искусства, которые начали собирать произведения нонконформистов именно после выставок в ДК имени Газа и «Невском».
Это были, как правило, «технари», сотрудники научных учреждений, инженеры. Искусство они коллекционировали не в качестве вложения средств, а по любви — выбирали то, что нравилось. Учитывая, что официального рынка не было (и не предполагалось), работы покупались в результате личных знакомств с художниками, часто — по символическим ценам. Но дело было не в цене. Составлявшиеся коллекции работали в первую очередь на историю искусства, позволяя сохранить для нее многое из того, что в ином случае могло быть утеряно.
Совершенно особую роль для ленинградского нонконформизма сыграл, например, коллекционер Лев Каценельсон, который еще с 1940–1950-х годов собирал произведения полумаргинальных и вовсе маргинальных художников разных поколений. Его коллекция представляла собой своеобразную энциклопедию местной художественной жизни, но не в официальной ее версии, а в подлинной, живой. В частности, имя Евгения Ротенберга сохранилось в истории искусства во многом именно благодаря Каценельсону, который собрал значительный комплект его работ и активно знакомил с творчеством художника-затворника своих многочисленных знакомых и просто посетителей. Адресатом собирательской деятельности Льва Каценельсона была, видимо, тоже в первую очередь история искусства. Во всяком случае, его коллекция хранилась в строгом порядке, по описаниям очевидцев она была похожа на настоящее музейное хранение или библиотеку.

Другие собрания, появлявшиеся позже, возникали в результате стихийных процессов: наконец-то осознавшее себя собой неофициальное искусство стремилось оставить свой след в истории культуры, стремилось так или иначе музеефицироваться. Конечно, шансов попасть в государственные музеи у андеграунда в те годы (почти) не было, и собиратели оказались единственной возможной альтернативой. Происходили и казусы, когда «коллекционеры» присваивали себе работы тех или иных художников — особенно легко подобное могло произойти при чьем-либо отъезде в эмиграцию. Но эти отдельные случаи не имеют отношения к самым значительным собраниям — Анатолия и Галины Сидоровых, Игоря и Риммы Логиновых, Николая и Раисы Благодатовых etc. Эти коллекции можно назвать полноценными памятниками культуры. Они хранились (а некоторые до сих пор хранятся) в небольших тесных квартирах, стены (иногда и потолки) которых увешаны сокровищами, сияющими сполохами свободного искусства.
Возникновение частных коллекций — прямое следствие состоявшегося контакта свободного искусства со зрителем. Для многих художников возможность продавать свои произведения — те самые, которые не признавались таковыми в официальной системе координат, — стала своеобразным подтверждением их состоятельности, легитимацией. Художник Александр Окунь, продавший после выставки в ДК имени Газа свою первую картину, сегодня вспоминает: в тот момент он понял, что его искусство кому‑то нужно.
Движение, выплеснувшееся на поверхность, в публичное (наконец-то!) пространство советской культуры выставками в ДК имени Газа и ДК «Невский», сложившееся сообщество, разрешенные выставки, возникновение ТЭВ и позднее ТЭИИ, — все это принято называть Газаневской культурой. Именно ее следует считать фундаментом ленинградской/петербургской художественной сцены 1980–1990-х годов. В этот период происходила, с одной стороны, интенсивная, практически профсоюзная борьба неофициальных художников за выставочные помещения и признание — этим занималось в первую очередь ТЭИИ. С другой стороны, в 1980-е возник рок-клуб, а на одной с ним волне — «Новые художники» под предводительством Тимура Новикова, «Поп-механика» Сергея Курехина, знаменитые «Митьки», чуть позже — некрореалисты. В этот момент свободное искусство по сути перестало быть неофициальным — не то чтобы лихие арт-практики Тимура «заземлились» в каких‑то санкционированных структурах, скорее ему и его соратникам оказались не важны и не интересны существующие рамки, которые — кстати говоря — постепенно разрыхлялись все сильнее, особенно с началом «перестройки». Вся эта динамика, которая оказалась ленинградским вариантом вполне всемирной «Новой волны», выплеснула искусство на поверхность, оно уже не пряталось внутри темноватых квартир и подчердачных мастерских, а если и оставалось в квартирах, то они превращались в настоящие галереи, вокруг которых искрило наэлектризованное художественным драйвом культурное пространство, — такова знаменитая галерея «АССА»: расселенная коммунальная квартира, в которой жил Тимур Новиков. Здесь происходили авангардистские выставки, спектакли и лекции, именно отсюда происходит и название культового фильма Сергея Соловьева, главную роль в котором исполнил Сергей Африка Бугаев, один из постоянных экспонентов галереи.
В «летописной» традиции писания о Газаневщине она предстает компендиумом, едва ли не полным собранием всего и вся, что существовало и происходило в ленинградском неофициальном искусстве тогда и раньше. Эта традиция предполагает, что знаменитые выставки, во-первых, собрали всех лучших и самых ярких авторов, а во-вторых, были важным шансом, который не стоило упускать. Именно корпус текстов о Газаневской культуре, которые создавались в первую очередь художником и летописцем Анатолием Басиным, можно считать исходной точкой для сложения некоторых традиционных иерархических и генеалогических схем, которые и сегодня используются для описания истории ленинградского неофициального искусства.

Но коллективная история — всегда большое сито, дырявая поверхность которого приводит к неизбежным упущениям. Как говорил выдающийся искусствовед и историк культуры Аби Варбург, Бог скрывается в деталях. Ярче, рельефнее, сложнее проблема взаимодействия неофициальной культуры со зрителем и воздействия изоляции на художников и их искусство видится на примере индивидуальных биографий. Не говоря уже о том, что из сводных компендиумов неумолимо выпадают фигуры, которые не вмещаются в них — или вмещаются с большим трудом.
Если ленинградское искусство как широкое явление, социокультурная общность вначале сгустилось из отдельных фрагментов, а в конце своей биографии стало безусловным фактом публичного пространства (и социального, и культурного), то гораздо менее линейно складывались отдельные судьбы.
Описанная выше ситуация Веры ЯновойХудожница Вера Янова (1907–2004) к 1940-м целиком отказалась от публичности, но, несмотря на затворничество, стала одним из ключевых звеньев ленинградской художественной традиции. — по крайней мере, на сегодняшний день — выглядит как некое досадное упущение истории искусства, как важная точка, обойденная широким магистральным потоком, которая при этом могла его обогатить, расцветить, расширить. В действительности невозможно предугадать, появится ли имя художницы в «истории мирового искусства», особенно с учетом давно существующего кризиса подобных «больших нарративов». Так или иначе, на первый взгляд кажется, что отсутствие публичности не оказало негативного, сковывающего воздействия на ее искусство — и при этом вполне вероятно, что присущая ей живописная свобода стала возможна именно благодаря приватности.
Евгения Ротенберга, кажется, с самого начала не очень заботил вопрос о доведении его работ до зрителя. Его случай — пример чистого «искусства для искусства», когда художественная практика осуществляется лишь потому, что автор «не может иначе». По крайней мере, на Ротенберга его рисование явно оказывало терапевтическое воздействие. Своеобразным побочным эффектом стало то влияние, которое его пример оказывал на молодых художников, в первую очередь на Михаила Шемякина: Евгений Ротенберг послужил для него одним из образцов свободы в искусстве, которую Шемякин и его ровесники отчаянно искали.

Случай Евгения Михнова-Войтенко оказывается сложнее всех. Художник начинает, существуя словно поверх разграничений публичного и приватного пространств. Не имея выставочных возможностей, он создает громадные холсты, которые должны существенно, ярко воздействовать на зрителя. Впоследствии, на фоне продолжающихся и развивающихся рассуждений о роли зрителя в (его) искусстве, Михнов приходит вначале к осознанию одиночества как источника творческих сил, а затем, продолжая искать встречу со своим идеальным зрителем, оказывается фрустрирован ее невозможностью. Его искусство претерпевает трансформацию, и от нацеленности на охватывающее зрителя воздействие и модернистскую предельную оригинальность художник переходит к многосложным и относительно небольшим визионерским палимпсестам, к погруженности в самого себя, углубленным раскопкам духовного содержания. Острый интерес к актуальным современным практикам сменяется пристальным всматриванием в иконопись и живопись старых мастеров.
Остается только догадываться, как сложился бы художнический путь Евгения Михнова-Войтенко, если бы его искусство существовало в публичном пространстве во всем своем объеме.
То же самое можно сказать и обо всех остальных наших героях. Все они — по-настоящему выдающиеся художники, яркие фигуры, их искусство многообразно и сильно, а подтверждением этого служат в первую очередь отзывы зрителей, в конечном счете немногочисленные, но от того не менее важные.
Ленинградское свободное искусство, существуя в приватном пространстве, пестуя в этих обстоятельствах собственную уникальную идентичность, подарило миру несколько выдающихся художников и художниц — и много прекрасных произведений.