«Только что прочла вашу книгу «Блуда и МУДО». Аннотация определяет ее как жесткий роман о современном человеке, и я боялась найти очередной приговор на трех сотнях страниц. Но оказалось совсем не так! Книга написана с любовью к людям. Судить людей легко, а любить трудно. И в этом главное достоинство Моржова. Он, конечно, неоднозначен, но не использует людей. Он видит в них светлые стороны, индивидуальность. А теперь я хотела бы задать вопрос. Какое будущее, по вашему ощущению, нас ждет? Нас — таких, какими мы описаны в «Блуде», где «упыри» — это еще «очень хорошие дети». В будущем у нас катастрофа?» (11.07.2007. Ирина)
Мое представление о катастрофе — это весь мир как город Ковязин. Мир, которому не нужна культура, как городу Ковязину не нужен стиль провинциального классицизма, хоть он там и присутствует. Моржов не зря говорит, что любит Ковязин как олицетворенное будущее. Это сарказм. Мой личный. Может, никто его и не уловил. Я где‑то читал, что в отдаленной перспективе все искусства окажутся нужны лишь для создания компьютерных игр. И живопись, и литература, и музыка, и кино… Вот это и есть катастрофа. И провинция к ней гораздо ближе, чем столица.
Недавно я беседовал со своим другом-искусствоведом, составителем «Бажовской энциклопедии», и оба мы пришли к парадоксальному выводу. Хозяйка Медной горы в сказах Бажова — это олицетворение земли. А что земле (Хозяйке) нужно от людей? Приказчика Северьяна-убойцу она сгубила: земле не нужна агрессия. И рудокопа Степана Хозяйка тоже сгубила, хотя он был хорошим человеком, но земле не нужны просто хорошие люди. Хозяйка пощадила лишь Данилу-мастера — пощадила талант. Потому что земле нужны таланты. И культура — единственная среда, где может реализоваться талант. Без культуры мы погибнем. В деградации культуры и заключена катастрофа. Конечно, предприятия закрываются, а у крестьян нет тракторов, и это беда.
Утрачиваются, размываются, подменяются и упрощаются смыслы — вот в чем проблема. А МУДОМУДОМуниципальное учреждение дополнительного образования., кстати, при всей его бесполезности, в городе Ковязин единственный «орган» производства смыслов, и сумасшедший Щекин — единственный производитель этих смыслов. Его и спасал Моржов. Разумеется, заодно спасал и Костерыча, который умеет беречь эти смыслы, и детей — «упырей», которые могут жить по этим смыслам, потому что еще не обработаны обществом, ну и женщин, которых просто по-человечески жалко. Без Моржова все они стали бы как «друиды». Без Моржова город Ковязин вымрет. Моржов оплодотворяет город, поэтому он и бабник.
«В «Географе» вы приводите полный текст песни Александра Башлачева «Время колокольчиков». Мне показалось интересным, что вы с ним учились на одном факультете, правда, в разное время. Какова была молва на журфаке об этом человеке во время вашей учебы (я полагаю, лично вы не встречались)? Каково ваше собственное отношение к его феномену? И как по вашему мнению, «время колокольчиков — новое язычество» давно наступило в культуре и искусстве или еще не «все снесли»?» (15.11.2007. Сергей)
«Время колокольчиков» я привожу в «Общаге», а не в «Географе». Когда я жил в той же общаге, что и Башлачев, никакой особенной молвы о нем не было, потому что он и сам еще был жив и не стал легендой.
«Время колокольчиков» — как раз о том времени, которое уже прошло (скажем, середина 1970-х — середина 1980-х годов). А искусство и культура синкретичны. Если нет тотального подавления (а его нет), то в культуре есть все, но в разной степени присутствия. Например, условно говоря, 70% Димы Билана, 20% Кобзона, 9% Бутусова, 1% Башлачева.
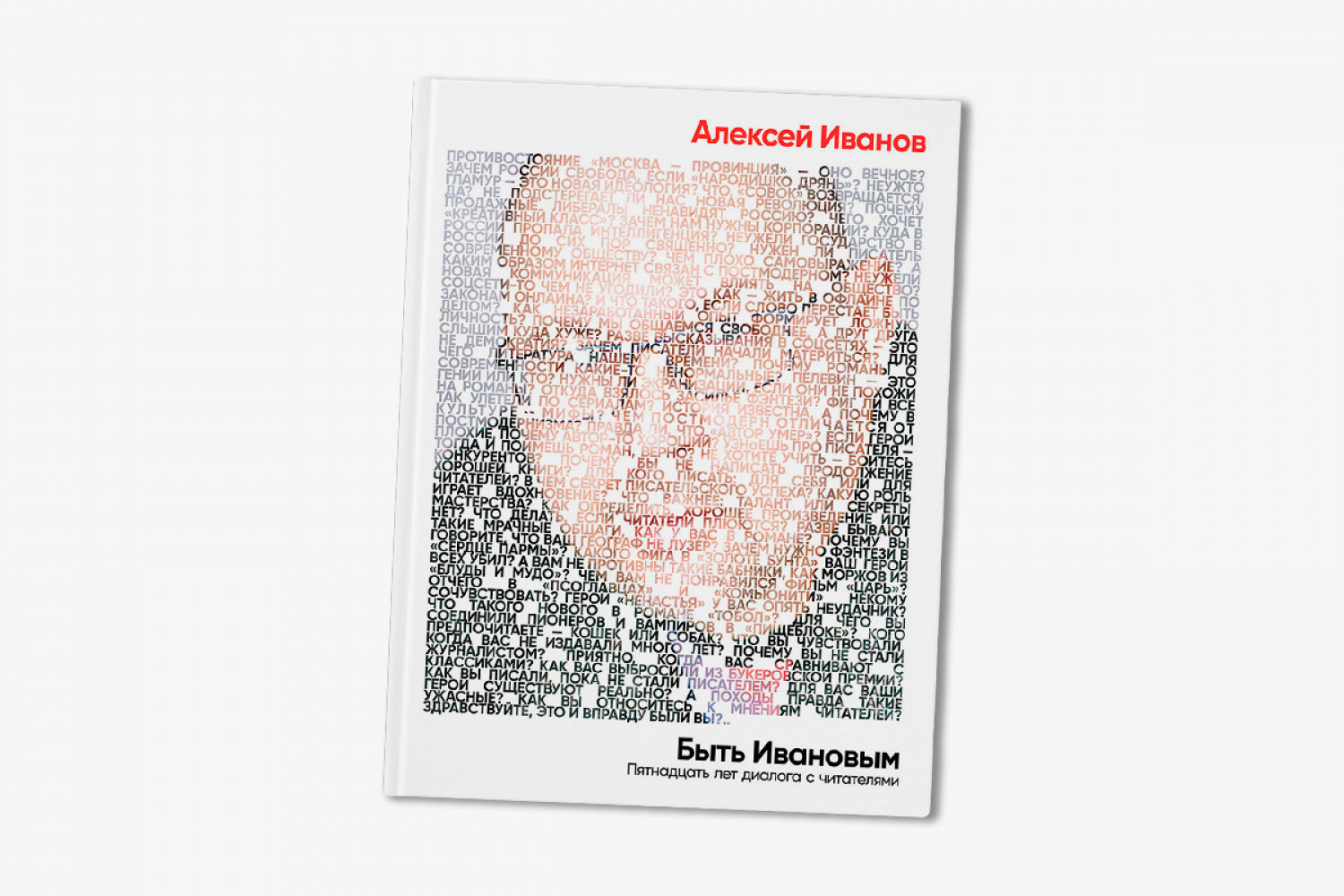
«Как вы думаете, оправдано ли деление литературного процесса на различные этапы при помощи жестких временных рамок? Или же данный процесс непрерывен и каждый последующий этап является логическим продолжением предыдущего? Что, например, можно сказать о современном этапе: считать ли его начавшимся лишь после распада СССР?» (16.11.2007. Дмитрий)
Тут вопрос не о самом факте деления, а в изначальной установке критика (литературоведа) и мотивированности его аргументов. По какому‑то критерию — можно и нужно разделять, по другому критерию — можно, но не стоит, по третьему критерию вообще нельзя, а по четвертому критерию лучше бы «делителю» сменить профессию. Литература все равно едина, и каждый новый ее этап вырастает из предыдущих, как верхний сегмент бамбука. Современная литература тоже выросла из советской, хотя не по принципу продолжения, а по принципу отрицания и дополнения. Если вы желаете жечь литературный костер самоупоения — то бамбук хорошо ломается на дрова «по стыкам». Если желаете ловить рыбу удовольствия — не ломайте удилища.
«Сегодня уважение и внимательность к слову — это из области преданья старины глубокой. И все же по-прежнему бранное слово многим режет слух, вызывая инстинктивное неприятие. Дело в том, что, для того чтобы увидеть в себе образ божий, нужны соответствующие слова (и, конечно, помощь и дар свыше), и наоборот — соответствующие слова для проявления и опознания в себе образа зверя. Вопросы такие. Полагаете ли вы, что для придания описанию современной жизни особой реалистичности никак не обойтись без нецензурщины? Разве задача творчества замыкается лишь точным отражением окружающего, разве она не состоит главным образом в привнесении в мир красоты, в преображении и приближении действительности к тому, что должно быть, а должно быть «хорошо весьма»? Все ли средства хороши для достижения такой цели?» (14.04.2008. Дмитрий)
Давайте не будем переносить законы праведной жизни на законы подлинной литературы. Искать в себе образ божий следует вовсе не по романам. Цель творчества — не только точное отражение окружающего мира (вы правы), но и не только привнесение в мир красоты. Цель — больше. Наверное, она даже не определяется. Может быть, она настолько большая, что ее и вовсе нет, как нет общего для всех смысла жизни.
О возможности или невозможности использования брани в произведении надо судить не по соответствию цензуре или нормам красоты, а по соответствию художественной задаче. Если соответствует — то можно. Адекватны ли использованные средства художественной выразительности поставленной художественной задаче — судить читателю. Но только именно с этой точки зрения, а не с позиции нормы социальных и речевых практик.
Или это черта «божьего облика»? Выходит, бог не матерился, потому что был косноязычным?
«Хочется спросить про вас и Достоевского. Как вы сами считаете, есть в вас «достоевщина» (извините, если грубо получилось, я люблю ФМ)? «Алеша» ли Отличник, например? Или «никакая красота не спасет никого»? Вообще, мотивы и муки Достоевского присутствуют в нас и в вас сегодня?» (23.07.2008. Татьяна)
Я не считаю себя последователем Достоевского — ни в художественном, ни в этико-философском отношении. Я не ставил себе целью «продолжить разговор», начатый Достоевским. И, разумеется, не равняю себя с ним по глубине. Хотя хотелось бы сравняться (а кому не хотелось бы?).
На мой взгляд, есть авторы, переформатировавшие собою русскую литературу. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Шолохов. Может быть, Пелевин. Писать так, будто их не было, невозможно. Их произведения — не только факты, но и структурная основа русской литературы. И если занимаешься литературой в русской традиции, то все равно так или иначе используешь их опыт.
Эти писатели сформулировали те русские вопросы, на которые наша культура отвечает всегда. Отсюда и «достоевщина», «толстовщина», «гоголевщина», «пелевинщина» и прочее в творчестве нынешних авторов. Чтобы избежать упреков, нужно выпасть из традиции. Для меня это нелепо, как нелепо заниматься химией без таблицы Менделеева, чтобы тебя не упрекали в «менделеевщине».
Если отвечать совсем уж конкретно, моя «достоевщина» — она от русского культурного опыта, а не от того, что сам я терзаюсь теми же муками, что и Достоевский. Диалог, а не бэк-вокал.
«Как вы думаете, где рождается книга: в обсуждениях критиков или в сердце читателя?» (10.11.2008. Ласточка)
Книга, конечно, рождается в сердце читателя. Но к сердцу она приходит из культуры. А в культуре появляется благодаря критикам. Если критики дружно скажут «Дерьмо!», то книга и не появится в культурном «обороте», следовательно, не найдет пути к сердцу читателя и не родится, хотя и могла бы. Лично я кое-какие книги прочитал благодаря рекомендациям критиков. Если бы они не рекомендовали прочесть, то я бы многое потерял. Но от того, что я прочел (или не прочел), а критики похвалили (или поругали), в книге ничего не изменилось.
За что им такая честь — не знаю. Но она имеется априори, потому в критику и лезет всякий, кто в первую очередь жаждет власти над литературой. И убивает свою профессию. Впрочем, эту драму культуры мало кто замечает, так как сейчас аудитория писателя на порядок больше, чем аудитория критика, и мало кто знает, похвалил критик Моська роман писателя Слона или поругал его. И критик не в состоянии повлиять на судьбу произведения — разве что у начинающего автора, которого пока никто ещё не прочитал. Вот поэтому тон у нынешней критики категоричный до карикатурности: приходится вопить, чтобы хоть кто‑нибудь услышал.
«Очень благодарна за ваши книги. Но меня смутило использование мата (ну не могу никак привыкнуть и принять). Уже читала объяснение по этому поводу, что матом герои просто разговаривают. А ваше личное мнение какое? Моржов без мата — это недоМоржов, к примеру? Мог ли он говорить ну как бы заменителями ненормативной лексики («едрит твою на кочерыжку» и т. д.)?» (20.05.2012. Татьяна)
Я понимаю. Но увы. На мой взгляд, заменять мат для Моржова было нельзя. Когда всякие поганцы вокруг Моржова матерятся, а Моржов говорит: «Едрит вашу на кочерыжку!» — это неубедительно в сравнении с поганцами. А если и поганцам дать подобную речь, то это неубедительно вообще. Мат — действительно речь. Есть замечательная книга культуролога и филолога Вадима Михайлина «Тропа звериных слов», где автор объясняет, что в человеческой культуре в разных локусах используются разные языки. Поясню, очень упрощая. В пространстве дома люди говорят ласково, сюсюкают. В публичном пространстве говорят официально или с пафосом. А в пространстве брани, войны, охоты — бранятся. Так, к примеру, два профессора-филолога на рыбалке вдруг начинают материться «для души» — что случилось? Деградировали? Нет. Просто они сейчас находятся в пространстве войны, охоты и говорят на языке этого пространства — матом. И проблема мата — проблема скорее социальная, чем культурная. Наша жизнь превращена в сплошное пространство войны, вот все и начали материться. Ужасно не то, что Моржов матом отвечает на мат, а то, что детский лагерь «Троельга» в «Блуде» — пространство войны, потому там и матерятся все, кто может воевать.
Если вы не найдете в книге ответа на свои вопросы, 4 сентября Алексей Иванов встретится с читателями на площадке InLiberty.


