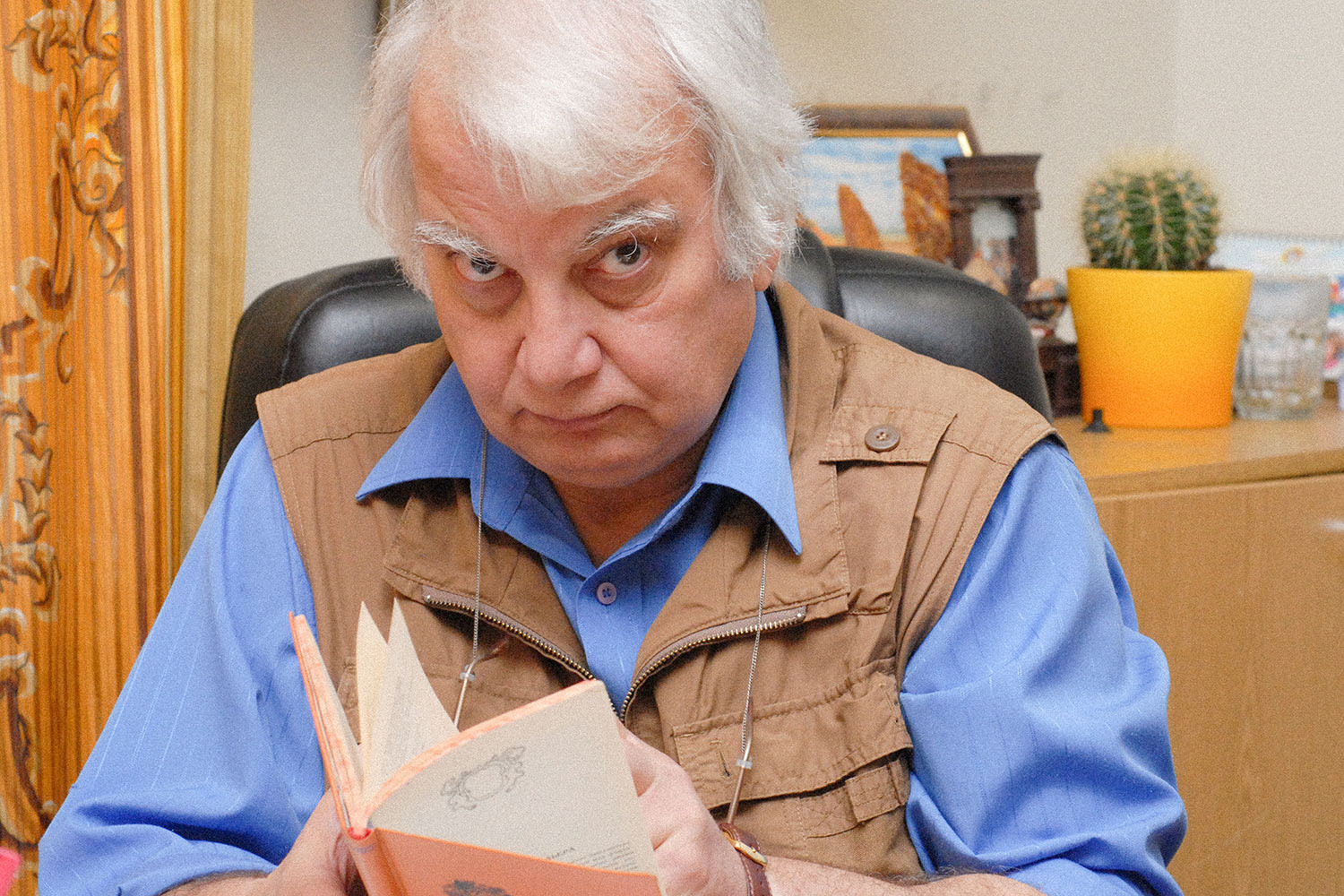— Когда я готовилась к нашему разговору, наткнулась на ваше интервью, которое начиналось с такой фразы автора: «Лев Иосифович Соболев — человек, который уверен в том, что он делает, знает, зачем и как это нужно делать». Это правда так?
— Конечно, с оговорками. Человек же не ледокол или броненосец, который идет, не замечая ничего вокруг. Могут быть сомнения и ошибки. Фразу эту сочинял не я.
— Как вам кажется, найти свое призвание — это удача?
— Я думаю, это необходимое условие, если ты не хочешь чувствовать разлад в главной или почти главной сфере жизни. Мне нравится фраза «Счастье — это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером хочется идти домой». Конечно, есть люди, которые выбирали работу из доступных, а не желаемых вариантов. Но у учителя, который пришел в школу перекантоваться, будут проблемы. Дети такое всегда чувствуют. Когда они понимают, что тебе до твоего предмета нет дела, то и им тоже он интересен не будет. Заряд должен быть, хотя он, разумеется, не может сохраняться 40 или 50 лет. Зато на его место приходит профессионализм, тот уровень мастерства, при котором ты гораздо быстрее и точнее понимаешь, что делать в той или иной ситуации.
— Как вы решили стать учителем?
— Как любой университетский пижон, я совершенно не предполагал, что пойду работать в школу, и собирался в аспирантуру. Учился я не в пединституте, а в университете, так что педагогическая практика была довольно короткой. У меня она была еще короче, чем у остальных, потому что я заболел воспалением легких. Но я попал к фантастическому учителю Александру Владимировичу Музылеву. На первом моем уроке он увидел довольно много недочетов, это была скорее университетская лекция. А после второго или третьего сказал: «Дай Бог каждому учителю». А когда у человека что‑то получается, ему это становится страшно интересно.
В аспирантуру я все-таки, пусть и не без труда, поступил. В конце первого аспирантского года мой приятель, который работал в школе, спросил, не хочу ли я взять два восьмых класса: их учительница ушла в декретный отпуск. Я согласился, и это был очень любопытный опыт. Школа находилась на задворках ЗИЛа, я пришел туда с наивными университетскими представлениями. Например, перед обсуждением «Горя от ума» я попросил детей коротко написать, чем эта книга может быть сегодня интересна. Один мальчик ответил: «Эту книгу надо читать на досуге перед смертью». Для них все эти Грибоедовы, Пушкины, а тем более писатели более ранние, были абсолютно неактуальны, непонятны и неинтересны.
На следующий учебный год мне предложили два класса в другой школе. Она располагалась между тремя спецшколами: английской, математической и художественной. Понятно, кто оставался в четвертой. Там были ученики, которые меня понимали с полуслова, но гораздо больше было тех, кто сопротивлялся самой мысли о том, что нужно читать и думать. Пока я рассказывал, им было интересно, но когда от них требовались ответные действия, я наталкивался на сопротивление.
А на третий год мне случайно предложили поработать в гуманитарном классе в школе № 67 у музея-панорамы «Бородинская битва». Там заболела учительница, и два филологических класса остались без уроков русского и литературы. Я туда приехал как учитель на замену в январе 1976 года и остался на 47 лет.
— Вас привела в учительство любовь к литературе, к детям или к преподаванию? Что тут для вас важнее?
— Комплекс всего этого. Если ты любишь только литературу — ну так пиши статьи и читай книги, зачем тебе для этого нужен класс? Если говорить про любовь к детям, то за 47 лет я довольно мало был классным руководителем, мне не нравится эта мелочная опека, дурацкая ответственность, ответы на вопросы, в каком кружке занимается ученик и почему его не было вчера.
Как любой профессионал, я радуюсь, когда у меня получается. А получается в каждом случае свое, это уравнение с большим количеством неизвестных. Урок у нас начинался в восемь утра, живу я далеко, так что приходилось вставать в 5.30. Сначала я ездил на трех видах транспорта через холод, темноту и сырость. Когда приезжаешь в школу, у тебя совершенно не обязательно бодрое настроение. В похожем состоянии дети, и проблемы начинаются сразу: далеко не все успевают, непонятно, надо их пускать или нет. Но я как человек, который пришел в консерваторию. Он думал про свои дела, почему к нему плохо относится начальник и что нужно покупать новые ботинки. Но дирижер взмахнул палочкой, и он про все забыл. Так же происходит в классе.
Однажды по дороге на урок я заехал в военкомат, думая, что мне только выдадут военный билет. А мне сказали, что все уже решено, я должен пойти в армию. Сами понимаете, в каком я был настроении. Но начались уроки, и я про это забыл. В армию я все-таки не пошел: проблему удалось уладить, потому что у меня был маленький ребенок и жена в декрете.
— В какой момент вы поняли, что учительство — это ваше?
— Наверное, с первых уроков, при том что они были обескураживающими. Я очень долго готовился и приходил к детям, ожидая, что они ответят определенным образом. Например, а давайте подумаем, почему мы сочувствуем Катерине в «Грозе», хотя, если я кратко перескажу вам пьесу, вам ее жалко не будет. Я произношу эту зажигательную фразу, и дети смотрят на меня с выражением «да что ты вообще придумал такое». Я потом говорил своим молодым коллегам, что все нужно испытать своим брюхом, невозможно взять чужие методы и воспроизводить их. Нужно выработать свою схему, обтесать ее, и только тогда все получится.
— Какой метод у вас?
Меня интересует, как они думают, а не их способность заучить как попугай. Я заводил их, чтобы они спорили, обычно это получалось, иногда очень хорошо. Я так строю урок, чтобы дети не пользовались готовыми аргументами, а придумывали их сами. Конечно, на учеников серьезно действует, когда они узнают, что Писарев сбрасывал Пушкина с парохода современности еще в 1861 году и что многие классические сейчас произведения встречали с неприязнью. Я думаю, что прижизненную критику надо знать. Можно с удивлением обнаружить, что на «Онегина» писали пародии, «Герой нашего времени» воспринимался как фальшивый роман, а Гоголь якобы писал грязные произведения, от которых пахнет как от лакея Петрушки. Дети должны понимать, что есть важная область человеческого духа — это литература. Мы обычно рождаемся с убогим диапазоном, но его можно расширять — и тогда ты сможешь понять и Набокова, и позднего Бунина.
— Научить думать и спорить — это главное в обучении?
— Главное — чтобы они стали грамотными думающими читателями. А этому можно научиться.
— Кто такой грамотный читатель?
— Это человек, который понимает, что важно не то, что Анна Каренина отдалась Вронскому и покончила с собой, а то, что нам этим говорит Толстой. Лев Николаевич и есть главный герой этого романа, это он с нами разговаривает. Мы можем с ним не соглашаться, можем задавать вопросы и искать на них ответы. И при таком подходе это произведение до сих пор цепляет, оно живое.
Грамотный читатель воспринимает текст не по верхам, а видит его глубинные слои. Это не дается само собой, это нужно приобретать и развивать. Но это того стоит.
— Если таких людей становится больше, это как‑то меняет мир, страну, общество?
— Думаю, что да, но я не знаю как. Вряд ли большинство моих сограждан — грамотные читатели.
— Почему вам нравится работать с подростками? У вас была возможность работать в вузе со студентами, но вы от этого отказались.
— В вузе учатся люди, которые уже все для себя выбрали. Я читал лекцию на курсе, который ведет моя выпускница. И хотя она говорила, что все прошло очень успешно, у меня было ощущение, что им это все не нужно. Именно у школьников можно вызвать непосредственную реакцию. Если для нас важно, кто займет наше место, надо об этом позаботиться. Я бы хотел, чтобы на смену пришли грамотные читатели.
— Но это же не делает людей более нравственными.
— Действительно, прямой зависимости тут нет, немецкие офицеры были искушенными читателями и зрителями.
— Что, на ваш взгляд, происходит с вашей профессией?
— Те молодые учителя, которые были нашими учениками и пришли работать в школу, внушают самые оптимистические надежды. Но школа — это, конечно, не островок, большие движения в стране ее тоже захлестывают. А что будет со всеми нами, со страной, а, соответственно, и с образованием, я угадать не могу.
— А ученики внушают оптимизм?
— Это наши дети, так что жаловаться на них бесполезно. Ребенок вырастает похожим на тех, кто его окружает. Если ему говорят, что нельзя сморкаться в два пальца, а все остальные это делают, то слова будут бесполезны. Мы считаем, что воспитание — это говорить ребенку каждый день одно и то же. А на самом деле воспитание — это то, что происходит вокруг. Претензии можно предъявлять только к себе.
— Нынешние дети отличаются от тех, кто учился в школе 10, 20 или 30 лет назад?
— Разумеется, да. Мои ученики начиная с восьмого класса могут мне объяснить все возможности гаджетов. Есть стереотип, что «30 лет назад все читали, а теперь нет». Но, может быть, они читали Николая Шпанова — так лучше бы вовсе ничего не читали. Конечно, трудно представить себе среднего современного подростка, который отказывается от игры в приставку ради книги. Но к чтению нужно приучать — и делать это с самого раннего возраста. И это работает, у меня перед глазами множество таких примеров.
— Есть мнение, что в России быть или по крайней мере долго оставаться в профессии учителя — это героизм, во многом потому что это эмоционально тяжелый труд за небольшие деньги. Как вы относитесь к такому взгляду на вещи?
— Я скептически отношусь к громким словам. Если я брошусь в горящую школу, чтобы спасти ребенка, то это будет героическим поступком. А я делаю то, что мне нравится. Сейчас у меня, конечно, гораздо меньшая нагрузка, я уже на положении лектора. Силы с годами теряются, так что я работаю три-четыре часа в неделю.