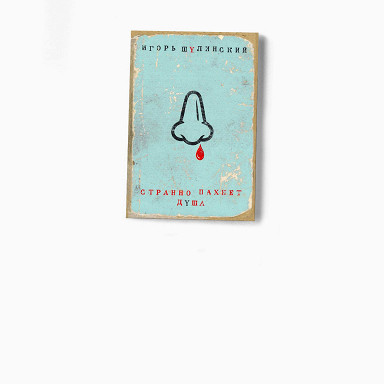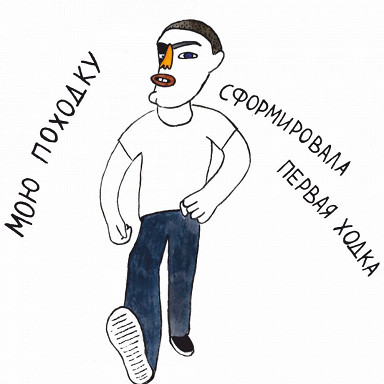— Вы с командой придумали проект «Девяностые» прямо перед пандемией, а когда начались съемки?
— В августе, в разгар второй волны.
— География фильма широкая. Как вы снимали спикеров, интервью с которыми были по зуму?
— Меня снимали на моей локации, а для съемки спикеров мы хантили местные команды. Ну, например, [Илья] Лагутенко находится в Лос-Анджелесе, я по зуму задавал ему вопросы, а Илью снимал там местный оператор.
— Всего в проекте шесть серий?
— Да, «Мумий Тролль», «Ночная жизнь», три серии про выборы 1996 года и «История российской рекламы».
— Главный сюжет — политика, правильно? Три серии посвящены именно ей.
— Сначала мы хотели сделать одну часовую серию, но поняли, что материала очень много: более 60 интервью, видео из личных архивов наших героев, хроника и масса всего интересного остается за кадром. Потом решили сделать две серии по сорок минут, и когда на платформе, на которой выходит сериал, увидели материал, они сказали: «Делайте три».
— С одной стороны, те времена были очень непростыми в экономической, политической жизни, но на фоне этого разворачивался, например, «Казантип», куда приезжали люди с деньгами, готовые веселиться. Как это можно объяснить, на твой взгляд? Откуда они брали эти деньги?
— Экономика существовала и работала: были банки, коммерческие предприятия, торговые фирмы, ларьки-палатки. Жизнь не замирала. Вот в 1993 году, например, в центре Москвы шла настоящая бойня, танки стреляли в Белый дом (по приказу Бориса Ельцина 3 и 4 октября 1993 года с помощью танков был расстрелян Белый дом. — Прим. ред.), а на окраинах люди ходили в бары, ночные клубы, и им вообще было наплевать, что там происходит в центре.
— У тебя в целом заметен интерес к тому времени: сначала был номер Esquire, теперь большой документальный фильм. Помимо исследовательского и исторического интереса, это же, наверное, для тебя и личная история?
— Мы воздаем должное нашей молодости и времени, в котором мы были совершенно другими. Мне в 92-м было семнадцать лет, и я только входил в жизнь, меня даже в большую часть этих ночных клубов не пускали.
— У тебя, пока вы готовили этот проект, были какие‑то личные открытия об этом времени? Есть что‑то, что на тебя произвело самое сильное впечатление?
— Таких открытий было очень много. Я, например, впервые в жизни услышал, что реклама банка «Империал» вообще не задумывалась как коммерческий проект, как реклама, продающая банковские услуги. Это был художественный манифест, который создавался таким образом, чтобы им восхитились несколько людей, важных для [Сергея] Родионова (бывший директор банка «Империал». — Прим. ред.), — от владельца «Лукойла» до [Виктора] Черномырдина. Также я не знал историю создания дебютного альбома «Морской» «Мумий Тролля», не знал, что [Леонид] Бурлаков с [Ильей] Лагутенко потом поругались и до сих пор не общаются. И, например, все знают, что были задержаны с коробкой из‑под ксерокса [Сергей] Лисовский и [Аркадий] Евстафьев (члены предвыборного штаба Бориса Ельцина, накануне президентских выборов 1996 года были задержаны при выносе из Дома Правительства более полумиллиона долларов в коробке из‑под ксерокса. — Прим. ред.), но Евстафьев никогда не давал интервью, а нам дал и рассказал примерно по минутам, как все происходило.
— Федор Бондарчук в серии про рейвы рассказывает, что Москва была центром вселенной. И говорит, что это то направление, в котором все должно развиваться.
— Москва была тогда безусловным центром мира. Есть теория, что у каждого десятилетия своя столица: у 60-х — Париж, у 70-х — Лондон, у 80-х, наверное, — Нью-Йорк, и так далее. Так вот в 90-е столицей мира была Москва.
— А можно ли считать нулевые правопреемником девяностых?
— Безусловно, без девяностых не было бы нулевых. Они заложили основу всего: экономики, культуры, маркетинга, политической системы.
— Был кто‑то из лично твоих героев того времени, до кого ты, работая над этим фильмом, достучался? Кто‑то, с кем ты мечтал пообщаться, но до проекта шанса не выпадало?
— Не могу выделить кого‑то одного. Я не думал никогда в жизни, что буду общаться с Татьяной (дочь Ельцина, была советником отца во время его президентской службы. — Прим. ред.) и Валентином Юмашевым (супруг Татьяны, также был советником Ельцина. — Прим. ред.), и для меня этот опыт очень важный. Я безумно хотел, чтобы [Глеб] Павловский дал интервью, у нас долго не получалось, но мы в последний момент его провели. Не думал, что Константин Львович Эрнст будет со мной общаться два часа, и это тоже было очень важно. Я бесконечно могу сейчас всех перечислять. Во время работы над таким проектом ты понимаешь, что все складывается, когда начинают происходить совершенно неожиданные вещи.
— Какие, например?
— Ну, например, я сижу со своим другом Володей Желонкиным, главой «Коммерсанта», и рассказываю ему историю про таинственных американских технологов, которые непонятно откуда появились помогать штабу Ельцина. А он говорит: «Ну а ты знаешь, кто привез американцев сюда?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Я. Искал их и оплачивал по просьбе банкира [Сергея] Пугачева».
— Вы хоть и давно дружите с Желонкиным, но ты этот факт о нем не знал?
— Я никогда в жизни не слышал. И вот так, одно к другому, история начинает обрастать героями и складывать сама себя. Это все какая‑то магия.
— Слушай, на самом деле, я хочу поговорить про центральный, на мой взгляд, сюжет — политический. Ты все-таки согласен с тем, что это центральные серии?
— Конечно. Это главные серии.
— Я правильно понимаю, что Геннадий Зюганов в этих сериях вмонтирован из предыдущих твоих интервью на «Минаев Live», которые ты с ним проводил?
— Да, это единственный человек, до которого мне не удалось достучаться. Мы потратили на попытку договориться с ним четыре месяца. Он просто мне не отвечал.
— Как ты думаешь, почему?
— Проигрыш всегда тяжело комментировать. Он же и в «Минаев Live» ко мне тогда пришел по другой причине. (На выборах 1996 года Геннадий Зюганов проиграл Борису Ельцину. — Прим. ред.)
— По какой, из‑за выборов?
— Да, тогда были парламентские выборы 2011 года, и он пришел поговорить про них, а я его вытащил на тему 1996 года. Так бы он не стал говорить, а оказавшись в эфире, не мог молчать. Честно говоря, я уверен, что если бы Геннадий Андреевич все-таки вышел на связь, вряд ли бы сказал мне что‑то отличавшееся от того интервью. Все вопросы, которые я хотел ему задать, я уже задал тогда.
— В твоем фильме и вообще всегда и везде, когда обсуждается 1996 год, центральный вопрос — моральный выбор: было ли правильным поддерживать Ельцина или нет? И, мол, если нет, то коммунисты бы снова пришли к власти, перечеркнув заслуги Ельцина. Как ты считаешь, это бы произошло, если бы коммунисты одержали победу?
— Я не знаю. Есть два объяснения, и оба очень важны. Первое: все, кто работал против Зюганова, — я имею в виду весь журналистский корпус, от Константина Львовича Эрнста до Алексея Алексеевича Венедиктова, — они делали это исходя из собственных убеждений. Они не хотели больше в Совок. Они там провели полжизни и обратно не хотели, потому что у них только стало получаться жить в новой России.
Второй тезис, который мы обсуждали с Венедиктовым. Я говорю: «Слушай, Леш, ну а какой Зюганов куда бы что вернул? Мы же понимаем, что он ненастоящий диктатор и ненастоящий коммунист, он не Сталин». Он говорит: «Да, но его окружала клиентела красного пояса. Это красные губернаторы, директора заводов, которые начали бы жрать олигархические активы, начали бы с ними воевать. Они бы не дали ему мирно сыграть, они бы начали войну на уничтожение». Ну наверное. Мы не знаем. И Ельцин, видимо, это так же понимал. Тут очень важно, что Борис Николаевич, к которому у меня очень сложное отношение, он же ведь правда каждый день мог умереть во время предвыборной кампании. Каждый день был последний бой. Можно, конечно, это объяснить тем, что он так хотел власти и поэтому готов был умереть на посту. Но нет, это нечто большее, и он действительно давал последний бой в своей жизни.
— Не могу не спросить о том, что в фильме голос бизнеса 90-х не очень представлен. Это намеренно было сделано?
— Ну это очень просто. [Борис] Березовский умер, [Владимир] Гусинский отказался говорить, [Петр] Авен тоже несколько месяцев переносил встречу. Откровенно говоря, мне гораздо интереснее было, как конструкция выборов складывалась политически, технологически, идеологически, а не то, сколько денег кто из них дал на эти выборы и что за это получил. Олигархи — не главные герои этой истории, я не хотел делать их главными героями.
— Что было бы, если бы Ельцин запретил коммунистическую партию в начале 90-х? Мы бы избежали столь скандальной кампании в 1996 году, к которой сегодня очень много вопросов? В третьей серии это поднимается?
— Поднимается, но на этот вопрос много раз отвечали. Ельцин же в 90-х уже подписывал этот указ [о запрете коммунистической партии], потом сказал, что «нет, мы так делать не будем».
— Да, они сначала хотели, потом передумали. По-твоему, чего они испугались, маршей «стоптанных ботинок»? (приверженцев коммунизма. — Прим. ред.)
— Нет, я не думаю, что они испугались «марша „стоптанных ботинок“». Они все были коммунистами в прошлом и понимали, что это такая охота за ведьмами, в которой ведьмы — они сами.
— Ну это сложный вопрос, откуда взялись бы незамазанные Совком люди? Что делать со всеми демократами, которые все были выходцами из ЦК КПСС?
— За время работы над этим фильмом я убедился, что почти никаких случайных людей в 90-е не было.
Не будем говорить, что все, но на 90% они были чьими-то детьми, друзьями чьих-то детей, комсомольцами, конторскими, членами советской номенклатуры и советской богемы. Очень мало людей, которые сами взошли из низов. В регионах их, безусловно, было больше, но я говорю про федеральную политику.
Поэтому не надо обманываться: большинство были вчерашними коммунистами. Они были мягче-жестче, лучше-хуже, но они все были вчерашние совки. И других не было. Откуда? Что, с Марса, что ли, их бы завезли?
— Выборы 1996 года — это отправная точка к тому, как проходят выборы сегодня?
— Это во многом отправная точка ко всему. Первая большая технологическая кампания, первая история про большие деньги, первая история про консолидацию разных общественных групп друг против друга. Первая история про телевизор как оружие массового поражения. Это как вот в романе «Гиперболоид инженера Гарина» [Алексея Толстого]: они увидели, как действует лазер, как он выжигает. Тогда все впервые увидели, как выжигает мозг телевидение, и это оружие, которое предопределило и сыграло главную роль во всех нулевых и в десятых.
— Кстати, были же задействованы медийные активы и брошены на поддержку Бориса Николаевича, что, скажем прямо, вроде как не очень адекватно его же системе ценностей
— Когда ты говоришь «брошены», это значит — либо заставлены, либо куплены, а они без этого готовы были топить против Зюганова. Они в большинстве своем ненавидели Совок.
— На сегодняшний день 90-е позиционируются в федеральной повестке так, будто бы они, скорее, людей разъединяют, чем объединяют: «Вы что, хотите, как в 90-е?» Что ты думаешь по поводу того, как вообще это время воспринимается? Хотел ли ты этим проектом изменить это восприятие?
— Это хороший вопрос. У меня не было задачи что‑то изменить, у меня была задача показать палитру, что вот, смотрите, было так: страшно, ужасно, плохо, а было хорошо, весело и круто. А все вещи, которыми мы сегодня пользуемся, они родились в 90-х. Все вопросы и претензии к нынешней системе, которые вы предъявляете, они родились тогда. Говорите вы о том, что СМИ под контролем властей, — знаем, когда это родилось, да? В 1996 году. Говорите о странной системе российской экономики? Это не изобретение нулевых-десятых, это все родилось тогда. Это удивительное время, которое я просто попытался зафиксировать. Я не хочу давать оценок. Кто я такой? Я где‑то был участником, где‑то — наблюдателем, а где‑то был случайным прохожим.
Безотносительно оценок 90-х главное, что я могу рассказать об этом сериале и о всех его сериях: каждый из героев — персонаж для отдельного фильма. Вообще, у меня жизнь не состояла эти шесть месяцев только из сериала, и я вываливался в современность, и вот, когда ты после встреч с этими людьми начинаешь обсуждать что‑то с современниками, то у тебя появляется неприятный осадок от того, насколько разный уровень этих людей.
— Ну ты что хочешь сказать, что все… отупели?
— Нет, дело все в том, что — как это не прозвучит романтично и пафосно — у моего поколения и поколения, которому мы наследовали, были ценности и убеждения. Кто‑то называл их воспитанием, кто‑то приличиями, кто‑то понятиями — это в разных средах называлось по-разному.
Но были постулаты: вот так поступать правильно, а так — неправильно, с этими людьми будем сидеть за одним столом, а с этими — нет. А сегодня большинство людей либо не имеют никаких убеждений, либо меняют их как перчатки, не веря ни во что, и это их девальвирует. А тогда было жесткое время и довольно честное. [Игорь] Шулинский сказал гениальную фразу в одной из серий : «Если был говном, ты и был говном». Если ты был нормальным человеком, ты и был нормальным человеком.
— Многие говорят, что Ельцин — единственный политик, который ушел со своей должности по собственному желанию.
— Но это не то, что многие говорят, это исторический факт.
— Вопрос именно в причинах. Некоторые говорят, что он ушел, потому что считал, что это правильно; другие — что это было связано именно с состоянием здоровья.
— Если попытаться ответить на вопрос про Ельцина и его уход, это, конечно, комплекс проблем. Это и здоровье, и семья, которая говорила: «Папа, надо отдохнуть», это и усталость, и много разных факторов. На самом деле это, скорее всего, комплекс натертых мозолей, но ушел сам — это факт исторический.
— Несомненно, Ельцин был сторонником выборов и выборной системы. Но есть еще один момент: он уходит и выбирает преемника — нынешнего президента. Не обесценил ли он этим решением свои сроки и свою идеологию?
— Он же ему не передал власть, как скипетр и державу. Были проведены выборы, они были выиграны блестящей командой во главе с разными людьми, в том числе и Глебом Олеговичем Павловским.
— Ну то есть ты не считаешь, что решением вывести Владимира Владимировича в президенты он тем самым проложил ему…
— Не считаю. А как? Представляешь, если бы Ельцин уходил: «Я устал, разбирайтесь сами».
— Ну он был большой фигурой, которой доверял народ.
— Мне кажется, что это не в его стиле, поэтому, конечно, он указал на того, кого он считал подходящим человеком для управления страной.
— Тем не менее после обозначения преемника проведение предвыборных кампаний изменилось, мы больше не видели такой активности кандидатов в президенты — с поездками по стране и общением с электоратом.
— Откровенно говоря, после парламентских выборов 1999 года все прочие кампании Путина проходили при его подавляющем преимуществе. И, конечно, таких жесточайших столкновений, как в 96-м, больше не было. Даже неспокойный цикл 2011–2012 года во времена Болотной (протесты 2011–2013 годов, проходившие за честные выборы. — Прим. ред.) был Путиным выигран с явным преимуществом. Возвращаясь к преемнику: Ельцин же уходил с фразой «Берегите Россию». Он же передал ее тому, кто на тот момент казался ему самым достойным. Если мы глянем на его ближайшее окружение того времени — а кому еще?
— Как ты считаешь, может ли эпоха 90-х, возглавляемая фигурой Ельцина, вдохновить на построение новой системы в России? Может быть, он станет новым национальным героем? Сейчас единственное, что у нас есть, — это Великая Отечественная война и какие‑то прежние заслуги, очень далеко ушедшие и забытие.
— Вполне возможно, что к 90-м как к легендарному периоду и Ельцину как легендарной фигуре в какой‑то момент вернутся и окончательно мифологизируют их. Это сделает состарившееся поколение 70-х при участии тех, кто родился в 2000–2010-х годах. Но, кроме этого, должна появиться новая базовая идея, объединяющая большинство.
Главной идеей 90-х было — если мы любую сферу возьмем, неважно, политика это будет, музыка или реклама, — отстроиться от Совка. Мы не хотим делать, как вчера, мы хотим сделать по-другому. Это самый важный тезис 90-х, который надо понимать. Главное — не быть, как вчера: не слушать совковую музыку, не смотреть совковые фильмы. Это было время, когда все говорили: «Давайте уйдем от Совка максимально далеко».
— Ты как, кстати, оцениваешь вот это пассионарное большинство сейчас? Во-первых, видишь ли ты вообще его среди молодого поколения, двадцати-тридцатилетних?
— Сейчас все очень расслоилось. Если раньше мы могли сказать, что вот пассионарное большинство и вот его первая пятерка-десятка спикеров, то сейчас все максимально размазано, как масло по бутерброду. Очень много спикеров, очень много ноунеймов, которые сливаются в хор, и этот хор — главный спикер. Неорганизованный протест, неорганизованное большинство. То есть ты не видишь связей, ты не видишь лидеров. Это абсолютно новая формация, где лидер мнений — не главный актор происходящего.
— Ну вот феминистки, с которыми у тебя недавно был конфликт, ты их определяешь как пассионарное большинство или нет?
— Ну как один из ручьев, который вливается в реку новой конструкции — мы можем ее называть новой этикой, новой социальной моделью поведения, она безусловно существует, ее нельзя недооценивать. Ее пока нельзя переоценивать, но она набирает силу, и этот ручей в себя вбирает разные голоса, и русский феминизм — он, конечно, один из таких голосов.
— На твой взгляд, откуда будут черпать и заимствовать идеалы новые российские пассионарии?
— Из двух источников: из нашего прошлого и с Запада. В прошлое будут смотреться, как в зеркало или как в мутную воду грязного пруда. Ты всегда будешь себя равнять по прошедшему. Мы сейчас же что‑то делаем, а десять лет назад это было вот так и привело к такому‑то. Россия в любом случае, к сожалению, территория, куда постоянно импортируются идеи. Мы были экспортером идей единственный раз — это в период с 1917 года и до, наверное, полета Гагарина, дальше все закончилось. Идеологически мы исключительно потребляли.
— Ну, кстати говоря, это же вечный петровский комплекс — что мы должны не выстроить свою повестку и что‑то придумать, а заимствовать откуда‑то, не пройдя при этом всех шагов, которые были сделаны другими странами, чтобы к этому подойти. И все очень шатко из‑за этого.
— Это тонкое наблюдение, и я не знаю, почему так. Действительно, мы быстро проскакиваем те формации, на устройство которых у западного общества уходили десятилетия, если не столетия. Мы считаем, что если мы за 10 дней их проскочим и перейдем из точки А в точку E, минуя B, C, D, все как‑то сразу и получится. Но просто это не дается, и эти шероховатости, конечно, заявляют о себе. У нас ведь в конце 80-х ничего не было. Никаких институтов демократических. У нас были какие‑то приблизительные понимания, как устроена рыночная экономика, как устроена выборная демократия, — мы все импортировали. Неоткуда было взять.
— Даже «Голосуй, или проиграешь» (лозунг предвыборной кампании Ельцина. — Прим. ред.) был взят из американского MTV.
— Да, это была история американского MTV, которое так приводило молодежь на выборы. И в этом смысле у нас ничего своего не было, поэтому мы либо делали КПСС, либо пытались косплеить Европу и Америку.
— 90-е, конечно, обладают какой‑то невероятной магией и для твоего поколения, и для моего. Если посмотреть на него с эмоциональной точки зрения, как бы ты описал это время?
— Это было чудесное, романтическое время и время больших ошибок, время больших надежд. У тебя каждый день был кризис, у тебя каждый день была угроза жизни. Каждый день тебя проверяли на прочность: а сегодня можешь без денег? А вот сегодня можешь без еды? Без работы? Человек был суперадаптивным, вынужден был быть суперадаптивным.
Мы часто говорим, что у нас что‑то где‑то пошло не так, могло быть гораздо лучше. Но, с другой стороны, могло быть и гораздо хуже, просто мы не знаем, насколько хуже. Построилось то, что пристроилось. И я бы закончил свой спич цитатой «Кровостока»:
«О вкусах не спорят, не спорят вообще,
И особенно с безвкусными мудаками.
Девяностые сделали такие парни, как я и Шура,
Сделали своими руками.
Не нравится, что получилось в итоге?
Грубовато? Что‑то не так?
Вы в своем праве, лузеры, — ругайтесь.
По мне, все было просто ништяк».