В Белом доме ожидается большой светский прием, устроенный четой Линкольн. Прибывают экипажи с высокопоставленными гостями. Столы ломятся от яств и напитков: китайская пагода, внутри которой в пруде из сахарных волокон плавают миниатюрные шоколадные рыбки, статуи, струящиеся карамелью. А в комнате над дипломатами и послами, которые ведут светские беседы, поднимают тосты и вгрызаются в оленьи стейки, умирает от брюшного тифа одиннадцатилетний сын президента Уилли.
Охваченный близостью утраты, Линкольн то сбегает по лестнице, то вновь спускается, чтобы поддержать приличия декорума, а тем временем Уилли отдает Богу душу. И попадает он не в ад или рай, а в промежуточное пространство со словоохотливыми, даже не затыкающимися покойниками. Уилли вместе с дюжиной душ застрял в пустоте, населенной человеколикими вепрями, горящими поездами и прочими порождениями психоделического мира. Будучи буддистом, Сондерс помещает героев в бардо — место, сродни нашему чистилищу. В бардо души встречаются с проекциями своих прижизненных слабостей, предстающими то ангелами, то демонами, то эфемерными сгустками энергии. А еще здесь есть чернокожие, которым не дают передышки даже в загробном мире, и ниоткуда растущие хищные щупальца. И вместе со всеми этими несчастными Уилли предстоит выяснить, как прорвать заслонку и наконец-то упокоиться.
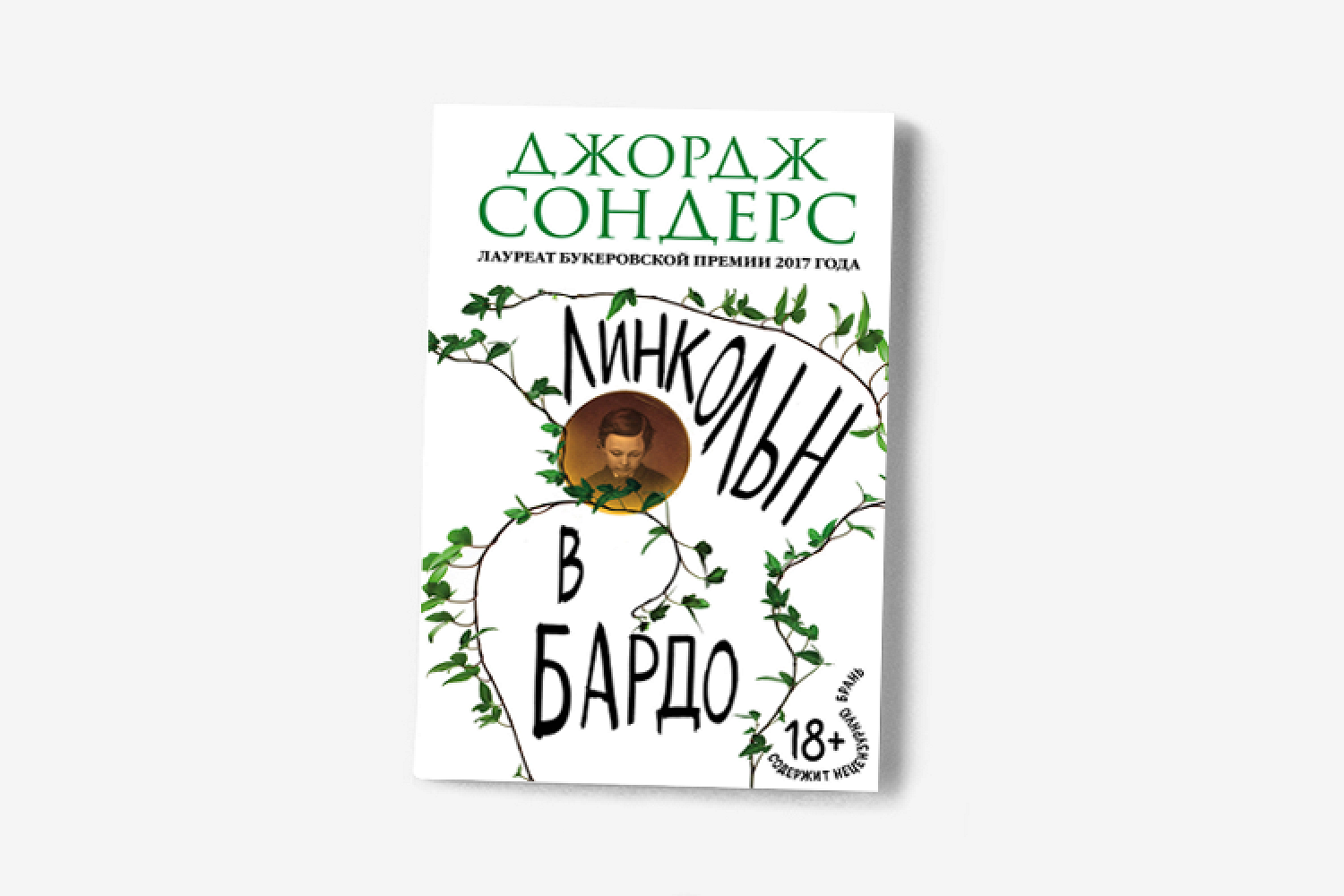
Попытки описать «Линкольна в бардо» почти неизбежно сталкиваются с ускользающей природой самого романа и в то же время с присущей ему амбивалентностью. Да и описать этот мимикрирующий роман без неловких фраз вроде «с одной стороны… с другой стороны» кажется невозможным. Так вот, с одной стороны, это, возможно, самый экспериментальный роман, который когда-либо получал Букера. С другой, искушенному читателю, прошедшему через огонь, воду и постмодернистов, текст Сондерса вряд ли предложит неизведанные (около)литературные территории, формальные или стилистические решения.
Строго говоря, «Линкольн» — это такой монстр Франкенштейна, сшитый из постмодерна, буддийского миросозерцания и штампов готического романа. Вот ниточка, ведущая к Бардо Тхедол, вот лоскуток черных юмористов, вот обрывки кладбищенских поэтов. И вместе с тем «Линкольн» — вполне самостоятельное произведение. Опять же, с одной стороны, где-то мы все это видели, с другой, проза Сондерса — это литературная среда, плотная, свежая, со странным мистическим очарованием. Во всяком случае, читая книгу, мы с изумлением видим, как истощенный труп постмодернизма вновь наливается кровью.

Вместо традиционной структуры Сондерс обращается к мозаичной, поделив повествование на диалоги призраков и показания современников и гостей президента, отрывки из газетной хроники, документов и исследовательских работ.
В первом случае Сондерс буквально вываливает на читателя лавинообразную полифонию голосов говорливых покойников, рассказывающих то о своих детях-спиногрызах, то о юдоли фермера, а то и о сексуальных предпочтениях. Подобно радиосигналам, реплики этих горемык прерываются, накладываются друг на друга и, в общем-то, редко содержат рациональное зерно.
Во втором случае писатель сплавляет подлинные данные о том злополучном вечере с придуманными (их, по оценке самого Сондерса, 85%). Он обыгрывает уже привычный постулат о субъективности и рыхлости истины; по сути же, выходит вариант байки о том, как рассказать трем мужикам историю и в итоге получить три отличающихся вариации. Так, красноватая луна в одних рассказах становится бледным полумесяцем в других, а цвет глаз президента варьируется от карего до серо-зеленого. Аналогичной стратегии придерживаются десятки романов от мала до велика вроде «Его кровавого проекта» Грэма Макрея Барнета или же «Дома листьев» Марка З.Данилевского.
В то же время Сондерс перелопатил гору исследовательской литературы, читал все, что подворачивалось о Линкольне, и даже прогуливался по кладбищу Оук-Хилл, где происходит действие романа. Автор знает не только название компании, что организовывала банкет, но и сорт цветов, возложенных на грудь бездыханного Уилли, и имена его бальзамировщиков.
Что же до дробного, совершенно зубодробительного стиля повествования, то сам Сондерс исповедует буддийский принцип, схожий с автоматическим письмом: доверие белому листу, подсознательные образы и торжество импровизации. Забавные имена героев придумываются на ходу, собственно, как и механика дальнейших происшествий и сюжетных поворотов. Это заметно с первых страниц, когда степенное письмо быстро проваливается в фантасмагорический галлюциноз.
Однако свести посыл лишь к попытке освободить подсознание от принципа реальности — значит недооценивать Сондерса. В такой же степени это срез американской культуры XIX столетия, пропитанный конфронтацией рабовладельчества и движения за освобождение чернокожих, нищеты и буржуазности, которую можно считать даже в порою бессвязных диалогах. Это и глубоко лиричный траур не только по Уилли, но и по всем безвременно ушедшим солдатам.
Есть две впечатляющие сцены, пожалуй, самые сильные в романе. Когда Авраам Линкольн проводит ночь в крипте сына, оплакивая его тельце, он в своем раскаянии и горе символизирует участь всех отцов времен Гражданской войны. И вторая, когда президент как бы становится сосудом для вселившегося в него призрака чернокожего Томаса Хэвенса, с которым они «скакали в ночи мимо спящих домов наших соотечественников». Президент и пребывающий в нем призрак идут нога в ногу, отражая еще одну важную идею романа: возможность быть равными, несмотря на расовые или классовые различия. И, по Сондерсу, это касается как земного шара, так и загробного мира.

