«Травматический опыт не меняет речь, он ее уничтожает»
Оксана Васякина
Поэт, управляющая книжным магазином «Порядок слов» в «Электротеатре Станиславский»

«Я родилась в рабочей семье в маленьком таежном городе. Моя мать двадцать пять лет проработала на заводе, отец был водителем. Последние пятнадцать лет своей жизни он работал дальнобойщиком — это очень похоже на миф, но это правда. В девяностые отец был замешан в каких-то криминальных делах, был таксистом, — наверное, продавал водку и наркотики. У меня сохранилось несколько фотографий, где вся его братва стоит на могиле застреленного друга. Его друзья постоянно умирали, а в нашу квартиру постоянно приходили «мусора», так он называл милиционеров. Мать была первой на деревне женщиной, я помню, что начальник милиции пытался за ней приударить. Так и жили.
Думаю, на мое формирование как поэтессы в большей степени повлияли не родители, а подруги мамы по студенчеству. После первого класса мама отправила меня на все лето к Жеке и Ире. Жека была и остается детской тренершей по парусному спорту, Ира занималась графическим дизайном и крафтом. Именно они показали мне, что можно заниматься творчеством. Они дарили мне книги, говорили со мной, как со взрослой, и всегда бережно относились ко мне и к моим чувствам. Семь лет подряд каждые каникулы я уезжала в Иркутск к Жеке и Ире, это было место отдыха от домашнего ада.
Лет в четырнадцать я написала свой первый поэтический текст. Это было не стихотворение, а текст рэп-песни с глубоко философским смыслом — о том, что время делает с людьми. Потом я пошла к соседу, у которого был компьютер, и в программке eJay 4 написала музыку для этого текста. Песню я так и не исполнила. Моя тусовка, как и все субкультурные подростковые тусовки, была сильно иерархизирована, и на девочек никто не смотрел как на способных писать и делать музыку — там, как водится, были свои звезды-пацаны, которым все поклонялись. Такая расстановка надолго отбила у меня желание писать стихи, потому что когда тебе четырнадцать и на тебя никто не смотрит, то и смысла нет ни в чем.
К тому же, дома творился кошмар: мать с отцом уже развелись, и у матери появился любовник-нахлебник, который был сильно моложе. Он часто бил ее, водил в наш дом стремных людей, которые смотрели на меня липкими глазами и лапали в любой удобный момент. Мне было не до творчества. Мне хотелось выжить в этом аду, чем я и занималась.
Все это время я смотрела на женщин, которые ждут мужчин с работы, из тюрьмы, от других женщин, — женщины постоянно только и делали, что говорили о мужчинах, которых никогда не было рядом. Я смотрела на это и не понимала, почему так происходит. Я думала про свою мать: вот она бодрая, молодая, красивая женщина, у нее есть дом со всеми бытовыми бирюльками, у нее есть стабильная работа, почему она не может отказаться от этого вечно пьяного упыря и страдает сама? Тогда я еще не знала, что такое феминизм, не знала слов «патриархат», «абьюз», «гендер» и вот этого всего. Теперь я могу себе объяснить все, что происходило в моем доме.
Ветер ярости from Саша on Vimeo.
Мне было семнадцать лет, когда я ушла из дома, и двадцать семь, когда написала «Ветер ярости». Мне потребовалось десять лет, три года из которых я провела в кабинете психотерапии, чтобы разобраться внутри себя с темой насилия, переработать этот опыт. Но иногда я все равно возвращаюсь в то место, из которого ушла, потому что ничего до конца не изживается. Это как шрамы на теле: они не болят, но они есть, и ты знаешь, что они есть, видишь их на себе и замечаешь на других людях.
Я не думаю, что травматический опыт меняет речь (любую). Думаю, он ее уничтожает. Уничтожает все живое внутри. А речь, восставшую после катастрофы, мало кто услышит. Она невидимая, беззвучная. Нужно очень много сил, чтобы тебя услышали и посмотрели туда, откуда ты говоришь. Мой сборник «Ветер ярости» — это символическое возмездие. Он посвящен женщинам, которых я видела и которых я никогда не увижу.
Я знаю, что сегодня мстить немодно, и многие меня осуждают за это и за мою категоричность. Но из сообщений и писем женщин, которые читали эти тексты, я знаю, что для многих «Ветер» работает как терапевтическая сессия. Для некоторых — это также сообщение о том, что насилие, нормализованное в культуре, на деле является медленным убийством. Галя Рымбу (Галина Рымбу — поэтесса, литературный критик. — Прим. ред.) предположила, что «Ветер» — это руководство по самообороне.
Я печатаю сборник дома на обычном офисном принтере. Уже напечатала примерно полторы тысячи экземпляров. Книжки есть в Хабаровске, Америке, Бишкеке, Франции, и я буду печатать еще.
Я часто бываю на поэтических вечерах, поскольку это часть моей работы, я работаю в книжном «Порядок слов» и являюсь частью механизма, производящего события поэтического мира. Читаю своих коллег, многие тексты и поэтические практики меня волнуют, некоторые вещи я не понимаю, но поэзия — это продолжение и часть жизни пишущего, и если мне что-то непонятно, я думаю, что это связано с разностью опытов. Для меня важно, чтобы текст влиял на реальность, и я всеми силами стараюсь делать это в своей поэтической практике».
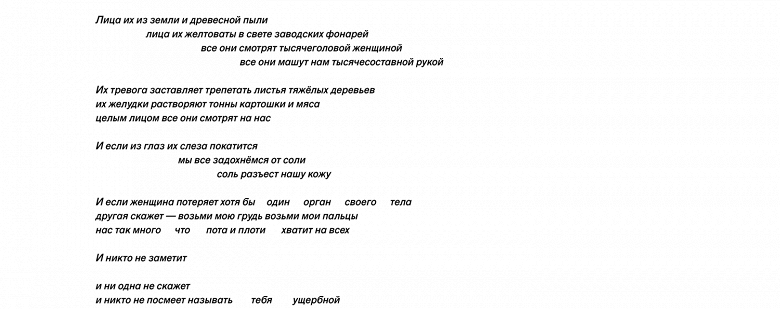
«Стихи — это способ вспоминать»
Илья Данишевский
Поэт, прозаик, руководитель проекта «Ангедония» (издательство АСТ)

«Первые тексты я начал писать в конце школы. Тогда я был под большим впечатлением от Шванкмайера (Ян Шванкмайер — чешский аниматор, кинорежиссер. — Прим. ред.), Целана (Пауль Целан — немецкоязычный поэт. — Прим. ред.), «Волшебной горы» Манна и повышенного политического напряжения окружающей среды. Это были дневниковые записи. Думаю, что и сейчас большую часть текстов я ощущаю дневниковыми — в той или иной степени четко соотносящимися с временем, местом, персоналиями. Стихи кажутся самой логичной формой архивирования воспоминаний. Во многом это такая история для внутреннего пользования, поэтому у меня долго не было потребности публиковать тексты.
Мне кажется, письмо — то же самое, что посещение бассейна, коллекционирование марок, бабочек. Способ ежедневно проживать свою жизнь, справляться с ее существованием в блокаде множества других жизней. Справляться с существованием прошлого, политики, как бы растворяющейся в нашем частном или растворившей наше частное.
Я не думаю, что травма (или только лишь травма) формирует речь. Если, конечно, не считать травмой любую коммуникацию, любое разъединение границы. Например, для меня очень важным был опыт детского общения с собакой. По отношению к ребенку собака — это ведь такая машина, принуждающая жертвовать и границами, и привычным языком (потому что, кажется, особенно в детстве, язык — это полное отражение дневного графика).
Еще дворовой опыт — общение, иногда слишком глубокое. Когда чуваки двора «А» с холодом [относятся] к чувакам двора «Б» и агрессивно — к чувакам «С». И ты впервые добровольно отлучаешься от семейного сообщества в сторону сообщества, которое кажется (возможно и скорее всего — только кажется) тебе более органичным. Так же, как и в случае с собакой, ты не знаешь, как развернет себя это желание, какие обязательства будут наложены.
Семья моего ближайшего школьного друга уехала из Грозного во время чеченской войны, у них было много фотографий разбомбленного города — это было сильнейшим переворотом. Когда я говорю, что стихи — это способ вспоминать, речь именно о попытке восстановить, например, вот тот день — лето, фотографии, Олимпиада в Сиднее, все слушают Земфиру, — и проследить его последствия. Стихи — это не попытка (не только или не совсем) коммуницировать, передавать, отлучать, избавляться, поэтому некоторым сюжетам — в том числе сюжетам большой истории, следам ее вмешательств — комфортнее разворачивать себя именно в поэзии».
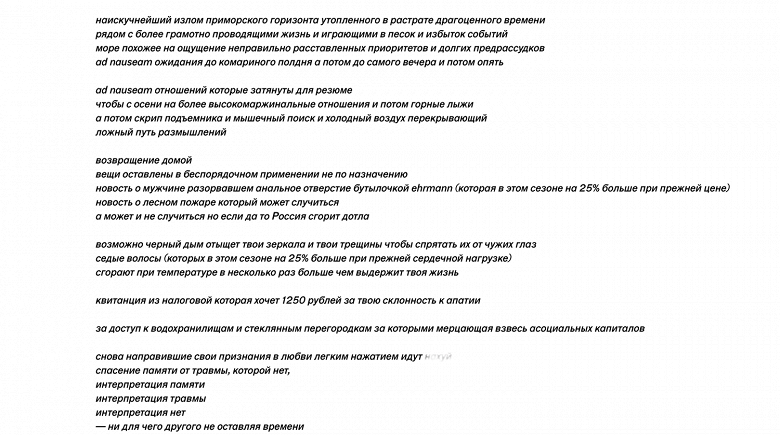
«Критика насилия может стать точкой консенсуса между поэзией и обществом»
Денис Ларионов
Поэт, литературный критик

«Кажется, свое первое стихотворение я сочинил на уроке русского языка в 11-м классе. Это была found poem (Поэтическая техника, литературный эквивалент коллажа, — Прим. ред.), сконструированная из словосочетаний, выписанных из учебника. Серьезно я к этому сугубо игровому опыту не отнесся, но саму ситуацию запомнил. В то же время я стал читать поэзию XX века, хотя и не до конца понимал, с чем имею дело: Пауль Целан, советская неподцензурная поэзия, американская поэзия в переводах. И параллельно — писать свои тексты уже серьезно, никому их при этом не показывая. Правда, в какой-то момент мне это надоело, я захотел поменяться и послал подборку Дмитрию Кузьмину (Поэт, редактор журнала «Воздух». — Прим. ред.).
Так в 2008 году я оказался в компании молодых поэтов, чье влияние на мою жизнь трудно переоценить: общение с поэтом и художником Андреем Черкасовым, поэтом и литературным критиком Кириллом Корчагиным, прозаиком Станиславом Снытко и многими другими людьми сыграло и продолжает играть в моей жизни очень важную роль, не только в поэтическом плане. Их же можно считать косвенными адресатами моих текстов.
В более общем смысле [на меня] повлияли режимы социального времени, то убыстряющегося до полного износа (1990-е), то останавливающегося резко настолько, что может вышибить дух (2010-е). В последние несколько лет для меня важно понять, где и когда разворачивается мой текст, в каком времени он закреплен.
Нападение хулиганов на улице, поездка в теплушке до Воркуты или тяжелая болезнь — каждое из этих событий способно как изменить речь, так и заставить замолчать навсегда (известно множество таких примеров). Я склоняюсь к тому, что сама поэтическая речь, связанная, согласно Роману Якобсону, с поэтической функцией, подразумевающей некоторое изменение, рождается из травмы. Только она вряд ли социальна.
Что касается насилия как литературной темы, то я вижу некоторую зацикленность на ней. Было бы странно, если бы ее не было в стране с таким уровнем гендерного насилия, с военными действиями под самым боком, с инфильтрацией публичной сферы пропагандой. В то же время критика насилия может стать нестыдной точкой консенсуса между поэзией и обществом, что пойдет на пользу и первому, и второму. Но чрезмерная фиксация на насилии как поэтической теме без какого-либо выхлопа ведет к двуполярной модели мира, состоящей из жертв и палачей, угнетающих и претерпевающих».


«ХХ век в России — фильм ужасов, а полнокровная жизнь существует только в поэзии. В поэзии начала ХХI века жизнь уступает место выжиганию травмы, когда «никто не посмеет называть тебя ущербной» (Оксана Васякина), «спасению памяти от травмы, которой нет» (Илья Данишевский) и усмешке — «на Дне Уязвимости подвязавшись волонтером фултайм» (Денис Ларионов).
Васякина дает сдачи патриархату, в котором вертикаль, цепочка, доблесть насилия — как «Отче наш». Ларионов признает, что критика насилия — точка консенсуса поэзии и общества. Но саму тему считает поднадоевшей, а то, что поэтическая речь рождается из травмы, для него — аксиома. У Данишевского травма — небытие, описываемое в системе координат ежедневного его употребления в качестве бытия: цифры, проценты и прогнозы, всплывающие фрагменты прошлого, ложный путь размышлений, наличие того, чего нет, стеклянные перегородки и как бы бодро-научно-успокоительные термины, которые оказываются перед глазами воленс-ноленс («высокомаржинальность»). Тут травма — в остановленной, застывшей, окаменевшей жизни, которая, тем не менее, жизнь».

«У каждого из трех поэтов свои отношения с насилием — магистральной темой современной русскоязычной поэзии. У Оксаны Васякиной это радикальная ярость. Ее книга «Ветер ярости» представляет собой манифест настолько горячей ненависти к мужчинам как господствующему классу, какую далеко не все феминистки готовы разделить.
Насилие в текстах Ильи Данишевского в отличие от «насилия у Васякиной» не осуществляется над автором извне, но помещено внутрь автора и внутрь стиха, присутствует как некая саморазрушительная сила.
Но если Оксана Васякина при всей радикальности чувств и идей пользуется традиционным, понятным читателю поэтическим языком, а Данишевский загоняет свою чувственность в классичную интонацию, полагаясь на рационализацию и эстетизацию и избегая по возможности непосредственного отношения к высказываемому, то в приведенном стихотворении Дениса Ларионова от эмоций автора ломается сам язык, сами имена. Структуры языка плавятся, течет грамматика, плывет логика. В итоге автор улавливает в сетку стиха мгновение жизни, не сведенное воедино, — ведь такое сведение всегда предполагает отсечение чего-то как бы несущественного. Ларионов же ничего не отсекает, но, оказавшись и сам уловленным в разнонаправленные мгновения, предстает открытым, уязвимым; день оказывается Днем Уязвимости. Мне кажется, это ценно».