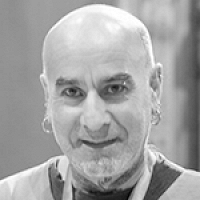

Бадалов: Кажется, мы с тобой, Таус, собрались здесь для какого-то кавказского invasion (в переводе с англ. — вторжение. — Прим. ред.).
Махачева: Ты думаешь, мы совершаем захват? Мне кажется, мы просто потихонечку растем и думаем, что мы больше, чем мы есть. Считаем, что мы баобабы, а на самом деле мы бобы.
Бадалов: Да, на самом деле мы занимаем маленькую страницу в истории искусства. В Баку вообще в смысле современного искусства не то чтобы много происходило. Кажется, в начале прошлого века русский композитор написал авангардную симфонию для заводских труб — и она звучала по всей набережной Баку. Да и то этот художник был не азербайджанцем, а русским — а сейчас мы все оттуда.

Так выглядит выставка «Когда я um.ru, ко мне доступа не будет» в галерее Iragui: некоторые работы написаны прямо на стенах, так что, когда выставка закончится, от них ничего не останется

На заднем фоне Баби Бадалов превращается в режиссера Паоло Пазолини, справа — художник Курт Швиттерс превращается в курда

Все проекты Баби устроены примерно так: поэзия ошибки, игра со словами и своей культурой, то ли стихотворение, то ли живопись, которым отзывается в его творчестве выставочное пространство

Таус Махачева рассказывает историю про его участие в выставке музея «Гараж»: «Андрей Мизиано рассказывал, что писал Баби о том, как вернуть ему работы после своей выставки «Без названия… (местные из неотсюда)» — а он ответил: «Да оставь себе»
Про социальный долг, иронию и дагестанских рыбаков
Бадалов: Я рисовал с детства, и моя культура не могла не повлиять на это: она была консервативна и очень богата своей визуальностью. Это сыграло большую роль в моем долгом пути и экспериментах, и в какой-то момент я почувствовал, что мобилизован — на фоне того, что происходит в мире и в Париже. Я рисую свою культуру, я пишу свою культуру — детские воспоминания, одежду моей матери, символику нашей культуры, наши ковры. Но это никогда не является моей специальной задачей, поймите меня правильно.
Махачева: По поводу показа своей культуры — у меня тоже стоит эта задача, но еще есть какой-то порядок задач про образование, ссылки, универсальные сомнения, которые свойственны всем художникам. Как сделать работу о тонущих рыбаках, о людях, о лодках, которые исчезают вокруг нас? Моя последняя работа для Венеции была связана со всем этим. Там есть истории конкретные — дагестанских рыбаков, дагестанских браконьеров, — и там есть истории общие, которые существуют в новостных лентах всех новостных сайтов. Это страшные истории, которые тебя трогают, что-то сворачивают внутри. И эти истории цикличны, это все повторяется. Те же рыбаки присутствуют в других формах, других исчезающих лодках. Они все всегда с нами.

Dagestan. Not for Sale

MOMMA

Vababai Vadadai!
Бадалов: Я живу в Париже, Таус живет везде, и мы видим мейнстрим — то, что хотят видеть кураторы, интеллектуалы. Я поколение старое, это видно просто по тому, что в мое время не было видео. Поэтому я очень уважаю людей, которые более реально, без всякого мифа, без всяких легенд говорят про традиции.
Это реальность — главное. Нас окружают рекламные постеры, поп, капиталисты. В азербайджанской деревне ты увидишь только постеры и рекламу — все это уничтожает нас. Я чувствую, что как художник я мобилизован в очень конфронтационное время — с национализмом и патриотизмом кругом. Мы сейчас говорим, что раньше было хорошо. Уже сейчас говорим, что в восьмидесятых было хорошо. Поэтому наша задача, моя задача и Таус, наверно, максимально подойти к сути, максимально показать, что же такое сегодня identity (в переводе с англ. — идентичность. — Прим. ред.). Это очень важно для меня.
Махачева: Ты знаешь, у меня мобилизация другого рода. У Баби она такая искрящаяся, бурлящая, а у меня это просто очень внутренний процесс. Это внутренний процесс, когда как бы сомнения и неуверенность в том, какую делать работу и какой тип высказывания вообще возможен на ту тему, которую я выбрала. Я недавно думала: может, мне перестать искусством заниматься и пойти работать… не знаю, заниматься физическим трудом. Когда видишь результат, помогаешь людям, появляется ощущение большей осмысленности.
В любом случае мой источник мобилизации — это истории дагестанских рыбаков, которые мы собирали. Их жизнь с совершенно тихим, спокойным принятием невероятного страха, невероятной готовности исчезнуть в море. Ты слышишь и думаешь: «Господи, никто об этом не говорит. Эти люди невидимы». Другой ресурс мобилизации — это позиции музеев. Вообще во всем постсоветском пространстве, в российских республиках, включая Дагестан. Вот был мой тип мобилизации, откуда появилась работа «Канат». Или когда я начала читать и отсматривать материалы про голодомор. Откуда появилось меню художника «Перевари это» для выставки фонда V-A-C, которую я сделала весной.
В том проекте у меня был леденец в форме головы Ленина. И я надеялась, что моя ирония в нем имеет эффект камешка в ботинке: вроде как его можно достать, но неприятное ощущение останется. И ты немножко давишься этой иронией. Как будто съел какой-то десерт, хрустальный шар, надкусил, а монетка оказалась настоящей.

Знаменитый уже проект Таус Махачевой «Канат»: канатоходец переносит картины с одной горы на другую, 61 произведение живописи и графики

Сюжет за проектом — то, как существуют музеи в постсоветском пространстве, а также непростой баланс культуры и культурного наследия

Главный герой видео «Гамсутль» танцует на руинах древнего (о котором будто бы все забыли) высеченного из скалы города-государства, переживая его телесно и восстанавливая память прошлого, вместе с тем иронически подражая природным и архитектурным объектам, которые находятся в плачевном состоянии
Бадалов: Без иронии, я думаю, искусства вообще не существует. Без иронии, без понимания символизма, без провокации… Издеваться тоже можно, но это символически. У меня есть работы, которые считают издевательством: «Run from Koran», «Мухаммед must be deported». Знаете, как сейчас говорят во Франции? Если полицейская машина догоняет машину, которая не останавливается, кто за рулем может быть? «Конечно, Мухаммед», — говорят. И когда я говорю: «Магомед must be deported», то называю расистами французов на самом деле.
В Петербурге наше поколение называли, извините, «чернозадыми», говорили, что мы понаехали. Нам говорили в метро, везде говорили: «Черномазые». Сейчас такого никто не говорит, мы живем сейчас в другом времени. Смешно, что турки в кебаб-шопах… «Панк, да? Тебе нравится панк? Баби, ну ты же азербайджанец». Я говорю, что не копирую панков, что просто это люблю. А мне не верят.
О новом реализме и приключениях в детокс-клинике
Бадалов: То, что делают Аслан Гайсумов и Таус Махачева (два молодых художника, которые в своих работах обращаются к темам традиций и современности кавказской культуры. — Прим. ред.), — это очень реалистическое искусство. Это современный реализм. Раньше была утопия реализма, даже паранойя реализма — сейчас другой реализм.
Я предлагаю быть реальным: если ты не реален, то играешь своими чувствами, мыслями, как будто уже раздеваешься. И все больше рассказываешь о себе, но тем самым от себя удаляешься. Как будто бы исчезаешь и становишься исполнителем. Уходишь абсолютно из мифа и искусства. Ты сидишь, все рассказываешь о себе — и все знают о тебе все. Тогда ты перестаешь быть художником и оказываешься простым человеком, который идет на работу, делает хлеб, кассиром работает, художником работает. Я пришел к этому и в одежде: для меня пойти купить что-то новое в магазине просто невозможно, у меня одежда должна быть немножко грязной. Потому что я художник во всем — я так понимаю часть искусства.
Мне очень нравится реальность, мне очень нравится быть реальным. Мне нужно прийти в галерею, поговорить со всеми, понять, где находится туалет, кто секретарша. Мне тяжело работать там, где все официально — и галстуки, и охранники. А в галерее Iragui все такие хорошие, и от этого здесь у меня поэзия началась, диалог с ними и пространством.

Для некоторых перфомансов Таус Махачева перевоплощается в Супер-Таус, простую дагестанскую женщину в национальном костюме, но обладающую суперсилой: например, здесь она носит гигантский бронзовый монумент двум смотрительницам дагестанского музея по Центру Помпиду в Париже, пытаясь найти, где же можно его установить

Супер-Таус убирает камни с дороги и совершает другие будничные подвиги. С одной стороны, это размышление о том, как невидимы усилия женщин в регионе, с другой — вечная отсылка Таус Махачевой своему культурному наследию

Одна из десятка ироничных работ Таус Махачевой с десертами: торт, в центре которого находилось жидкое Каспийское море. В ходе перформанса Таус резала торт и раздавала куски прикаспийского региона гостям
Махачева: Сейчас совершенно другой реализм. Реализм, который смешивает временные пласты, смешивает какие-то культурные ссылки. Баби говорит про себя как про человека, связанного с мифом, а про нас — как про реалистов. Он говорит о наборе идей, которые ты из реальности вылавливаешь и соединяешь. В этом плане мы действительно просто реалисты, которые создают какой-то образ. Образ реальности немножко со смешанными таймлайнами, конечно, но как бы такой очень четкий образ реальности. У Аслана Гайсумова есть такая работа: ты берешь кувшины из супертонкого стекла, и у тебя в руках рассыпается культура, и она была доведена до такого рассыпающегося отчаяния политикой. Это точно такие же заметки с натуры, что и раньше — как набор для очистки организма, связанный с моим исследовательским опытом в детокс-клинике Верба Майер по австрийской системе. Восемь дней я там проводила ресерч, а потом сделала по итогам работу для Shaltai Editions.
А по поводу отдаления от себя — я согласна с Баби: тебе не обязательно раздеваться и предоставлять свою собственную историю. Твоя собственная история может быть маленьким компонентом, которая может идти где-то, где-то присутствовать, но она не должна заполнять всю полость смысла определенной работы.
Бадалов: Вот ты говоришь, что для вас очень важны ирония, сарказм. Для меня это очень важно, потому, что сегодня многие люди страдают от того, что у них нет иронии. У французов очень много иронии. А здесь иронии нет. Вот сегодня пошел за селедкой в соседнее кафе, а официантка тут же ко мне приходит с надменным вопросом: «Ну, что выбрали?!» Что за тон?.. А потом пришла и говорит: «Вам понравилось?» Oh my God!.. Слушай, я обычную еду кушаю, что такое? Чтобы люди проснулись и улыбались, я их пытаюсь через искусство шевелить и шевелить. Например, вот для этой своей выставки я очень много новых слов придумал, которые должны помочь людям открыть их чакры, — «многосторонний», «дальновидный», «ближневидный», «многостранный», «дальнолевый», «дальносправый».
О месте Москвы в мире и влиянии отечественной политики
Бадалов: Сегодня мне знакомый сказал: «Как там русское искусство в Париже?» Я говорю: «Ты знаешь, они нас… там не любят русских. Вот даже турки, иранцы очень хорошо перемешиваются с французами, с Европой, но русские — как-то не то. Никак. Арсений Жиляев, допустим, делает работы про Советский Союз — и очень интересные. Но я почти не знаю русских художников. Кто есть там? Что делает? А столько иранцев знаю, столько турков знаю. Таус я вижу, Аслана вижу в последнее время везде. Вот Алимпиев — я никогда не слышал о нем ничего. А здесь, оказывается, большой художник.
Махачева: Да, но это вопрос вообще о том, как происходит интеграция художников в мировой контекст. И кому-то это удается более успешно, кому-то это удается чуть менее успешно. Но опять же, это к вопросу о том, на каком языке ты говоришь. Рано или поздно ты начинаешь говорить на языке, на котором говорят твои коллеги. На языке узнаваемом и на языке понятном. Почему я увлеклась едой, какими-то десертами? Потому что мне показалось, что сейчас это наиболее — для меня, по крайней мере, — наиболее радикальная форма. Не бесконечные раздевания для перформанса — но придумать десерт, концептуальный, с монеткой внутри. Продать это невозможно, но из этого что-то получается новое.
Бадалов: В одном месте я написал: «Я современный художник», а в другом: «Я своевременный художник». Я хочу объяснять людям: современное искусство — своевременное искусство. У меня немного мифа есть, но такие художники, как Таус, как раз уничтожают мифы, потому что работают с этой реальностью: реальное время, реальные истории, реальные документы. А я работаю с мифами: я говорю не на своем языке, другого поколения художник. Как Энди Уорхол, Зверев, Глазунов. Я иногда думаю: что такое человек из Персии, из Азербайджана? Двести лет здесь такого не было. Кто такой француз? Он турок, вполне может быть. Мы немного как супергерои: я уже не азербайджанец. Как я могу быть азербайджанцем? Сколько слоев культуры у меня есть, понимаешь? У меня чувства ностальгии нет. Париж — моя родина или нет? Нет же у нас этой посттрансформированной родинности. Мы гибриды.
