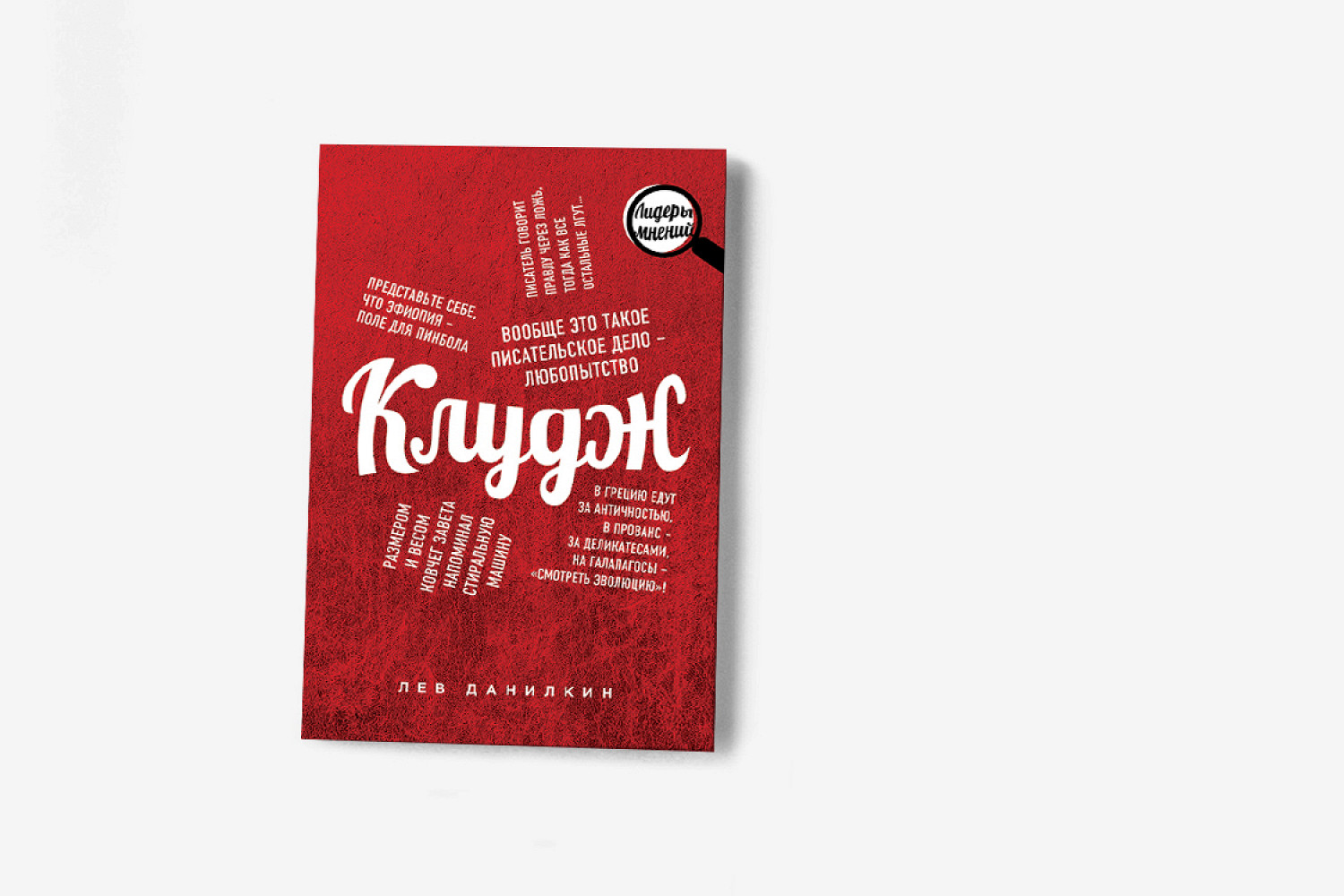Питчинг (от англ. pitch — «выставлять на продажу») — короткая презентация (литературного) проекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект; обычно проводится в рамках какого-то фестиваля или более крупного мероприятия.
— Сдается мне, что я отличаюсь от всех людей, которые выступают здесь, потому как не столько ищу издателя или инвестора для своей книги, сколько, наоборот, изо всех сил стараюсь оттянуть момент, когда она будет опубликована, так как понимаю, что стать автором такого сочинения — это совершить социальное самоубийство. Дело в том, что я пишу книгу про — ох, что сейчас будет… Но, если вы не против, я начну издалека.
— У вас десять минут, не забывайте.
— Да. Мой отец всю жизнь проработал в органах и в 80-е служил в Базеле под видом посольского секретаря, формально курировавшего коммерческие вопросы. На самом деле в его обязанности входила среди прочего и вербовка агентов. Однажды, оказавшись на каком-то приеме, он повстречался c одним швейцарцем, который сообщил ему, что у него есть соображения относительно причин недавней катастрофы советского астрономического зонда, отправленного с миссией на Венеру. Отец предложил ему обсудить эти вопросы подробнее где-нибудь частным образом; они пообедали в ресторане — там-то отец и услышал впервые фамилию Великовского.
Швейцарцу — он носил имя К.М. — было предложено не останавливаться на том, что уже сказано, и делиться своими соображениями — которые выглядели эксцентрично, но за неимением других желающих работать с советской разведкой можно было взять и их — и получать регулярное вознаграждение. Тот согласился и на протяжении четырех лет ежемесячно составлял своеобразные «отчеты» на весьма необычные темы, связанные с эзотерикой, астрологией и мифологией. Они пересылались в Москву, где с ними работали дальше. Надо полагать, вербовка швейцарского гражданина воспринималась как успех разведки и отец получал за это определенное вознаграждение.
— Лёв, ты чего?
— Да ничего, не любо — не слушай. Так вот, в 1987-м швейцарца арестовали и предъявили ему обвинение в шпионаже; разразился дипломатический скандал, отца выслали из страны. Москве пришлось прибегнуть к симметричному ответу: из швейцарского посольства был выслан один из секретарей. В ходе разбирательства выяснилось, что, хотя К.М. действительно сотрудничал с советской разведкой и получал за это деньги, информация, которой он снабжал органы, ни в каком виде не подпадает под определение государственной тайны. После двух месяцев заключения «агент» вышел на свободу за отсутствием состава преступления и был реабилитирован.
Отец никогда не посвящал меня в детали своей работы, и поэтому я не имел ни малейшего представления о том, почему в какой-то момент его перевели из Базеля в Москву. Много лет спустя, разбирая его бумаги, я наткнулся на список тем, показавшийся мне крайне причудливым.
Разумеется, я заинтересовался, кто такой этот Великовский, за сведения о научных представлениях которого КГБ расплачивался валютой. Выяснилось, что теория его сводилась вот к чему. История — неправильная, и связано это с воздействием на Землю небесных тел, с катастрофой. Человечество пережило травму, которую пытается забыть, запихнуть в дальний угол сознания, — однако вследствие того, что некое воспоминание о травме все же остается, возникает невроз, реализуемый как насилие, войны, революции и проч. Человечество больно, с ним должен работать психоаналитик.
Надо сказать, я был удивлен, что кто-то мог всерьез воспринимать подобную чушь.
Зная, что окажусь по личным делам в Базеле, я подумал, а почему бы мне не разыскать того швейцарца — вдруг он жив и расскажет мне что-то интересное. Сейчас все легко. К.М. оказался 83-летним стариком с трясущимися руками — и вполне ясным умом, если вас не смущает смысл того, о чем он говорит. Я не стал говорить ему, что я сын того самого В.В., которому тридцать лет назад он рассказывал о горячей атмосфере Венеры. Мы поговорили с ним о политической подоплеке советской миссии — построить на этой возможно обитаемой планете идеальную коммунистическую цивилизацию.
Время от времени К.М. — разговор происходил у него в квартире — отлучался куда-то буквально на несколько секунд — и возвращался с несколько более озабоченным, задумчивым лицом; я видел, что он заглядывает куда-то в кладовку.
— Что там у вас? — наконец решился я спросить. Он посмотрел на меня оценивающе — стоит ли доверять мне это знание — и, пожевав губами, пригласил меня пройти. Там находился некий прибор, подобие весов с четырьмя, что ли, колбочками; в каждой что-то происходило — и все это через сложное переплетение проводов было подключено к компьютеру, монитор выдавал осциллографию.
— Это медь, ртуть, олово и свинец. Мой инструмент генерирует кривые, которые отражают изменения гравитационного поля. Каждый металл испытывает на себе действие соответствующей планеты. Ртуть — Меркурий, свинец — Сатурн… Я измеряю гравитацию.
— Но ведь… — я немножко помнил — в пределах школьного курса — физику. — А зачем ее измерять?
— Зачем? — он завороженно наблюдал за своими кривыми, как аквариумист — за рыбками. — Затем, что гравитация непостоянна.
Цифры, которыми он оперировал, быстро выветрились из головы, но я запомнил, что динозавры вымерли как раз из-за того, что при нынешней гравитации просто не могли сдвинуть свой собственный вес.
Ощущение, будто у Циолковского побывал: тот же тип одиночки-мечтателя; полутора часов беседы, однако ж, оказалось достаточно, чтобы понять, что отец, по-видимому, не слишком всерьез воспринимал свои должностные обязанности — раз соглашался тратить государственные деньги на подобного рода откровения. Мне, впрочем, показалось занятным, что любые, даже самые дикие идеи способны быть заразительными — в научном смысле Великовский оказался бездетен в Америке, однако в Швейцарии его бациллы попали на благодатную почву. Старик подарил мне на прощание чашку с надписью «Gravitation is Faster than Light», которая время от времени оказывает на мои губы термальное воздействие, напоминая о травмах космического происхождения.
Проглядывая сведения о Великовском, я задержался на фамилии Морозов, Николай Морозов; про него было сказано, что — не исключено — именно он дал толчок сомнениям Великовского в правильности традиционной истории — хотя сам Великовский никогда на Морозова не ссылался то ли в надежде на то, что все равно никто в Америке про этого Морозова не раскопает, то ли в самом деле не будучи знаком с его трудами.
Морозов меж тем оказался фигурой еще более удивительной, чем Великовский: с биографией, и какой. Член «Народной воли», отсидев двадцать шесть лет в Шлиссельбургской крепости за терроризм, он вышел оттуда с картиной мира — и хронологической таблицей, радикально отличающейся от той, что была предустановлена в головах всех прочих людей.
В 1919-м, в разгар Гражданской войны, интервенции и разрухи, Морозов умудрился убедить Ленина выделить денег на публикацию многотомника с неожиданным для советского книгоиздания названием «Христос». Идеи ревизии истории не были приняты научным сообществом, но карьера самого Морозова складывалась в целом успешно — он стал директором собственного института; однако и на этом его приключения не закончились. Он успешно пережил тридцать седьмой год — возможно, его не тронули из-за возраста. В начале войны он оказался в Ленинграде; в девяносто два года записался на курсы снайперов, добровольцем отправился на фронт и самолично подбил семь немецких танков.
— Послушайте, но про Морозова — это ж явный бред из «Википедии», вы что, всему вот так наивно верите?
— Нет, но… Надо проверить, конечно. Так вот… Мне нравятся биографии необычных людей, и вот уже несколько лет я безуспешно пытался найти нового персонажа для своей книги. Вот он, наконец-то; впрочем, очень скоро мне пришлось закусить губу: среди прочего, в «Википедии» было написано, что Морозов — предтеча ладно там Великовского, а математика Фоменко, того самого, который «Новая хронология».
Я почувствовал горечь — ну вот, стоило проделать весь этот путь, чтобы уткнуться в ботинки человека, чье вызывающее брезгливые улыбки имя давно сделалось в научном мире синонимом шарлатанства, вульгарности и нелепости. Куликовская битва в Москве на Куличках, Батый — «батя», Мамай — «мамка», Дмитрий Донской — это Рамзес Второй, а Кострома — это Хорезм; все сфальсифицировано; как же, слыхали. Тем не менее я не прекращал поиски какой-то странной идеи, произведенной в России.
Сначала мне показалось, что Фоменко с его эксцентричными фанабериями — это не что иное, как идеальный симптом, по которому можно поставить очень точный диагноз больному обществу — показать, до какой степени оно деградировало, освоив эту экзотическую разновидность современного масскульта. Чокнутый математик, заразивший своим безумием полстраны, — представляете, какой персонаж; не хуже Перельмана.
Кляня самого себя за бессмысленную трату времени, я разыскал имейл Фоменко и, назвавшись журналистом какого-то издания, попросил его об интервью. Он ответил, я позвонил ему, а он любезно согласился говорить со мной. Так, собственно, началась вся эта история.
И я провел с ним несколько месяцев в беседах. Это были незабываемые встречи — на первой же он сообщил мне, что «сейчас мы расшифровываем гороскоп», а как раз недавно он открыл, что Иван Сусанин описан у Тацита, а английское слово enjoy — согласно его теории все европейские языки произошли от русского — это от русского выражения «на, жуй!». Должен признаться, все это производило крайне неблагоприятное, но впечатление — с большой В.
Я мог написать книгу сразу, просто по нашим разговорам — и она бы получилась ернической, забавной, сатирической.
Удивительно другое: казалось, его самого удивляла та дикость, которую он вынужден был произносить — вынужден, потому что внутри системы, которую он создал, эта дикость оказывалась правдой. То есть он понимает прекрасно всю иронию ситуации, нелепость. Чем дальше, тем больше мне становилось ясно, что он никакой не шарлатан, а, во-первых, математический гений и, во-вторых, в высшей степени вменяемый человек, способный к иронии, — и скептик побольше, чем я сам. И мне никогда ни с кем не было так интересно, как с ним.
И ладно бы только интересно.
Постепенно мне пришлось признаться себе, что со мной самим что-то происходит; мне нужно повариться с этими идеями.
Могу я или не могу не замечать, что серп и молот на советском гербе — это вариация полумесяца под крестом на церквях?
Я ощущал себя Волькой Костыльковым, которому Хоттабыч нашептывает про Индию, где обитают плешивые люди и золотодобывающие муравьи величиной с собаку. «Ты что, Костыльков, перегрелся?!» — орала на меня внутренняя Варвара Степановна, но губы по-прежнему продолжали повторять Хоттабычеву ахинею.
И вот я хожу и думаю об этом не первый год.
Некоторым оправданием моей прокрастинации служит то, что тополог А.Т.Фоменко не останавливался в своих попытках восстановить оригинальную геометрию истории по деталям, оставшимся после деформации, — и продолжал выпускать новые книги — с еще более сногсшибательными откровениями. «Тихий Дон», «Шахнаме», Помпеи, «Гамлет», Марко Поло, Дон-Кихот, Колизей, камень Каабы — список объектов истории и культуры, которые он бросал в пылающую домну своего радикального ревизионистского проекта, становился все более длинным и все более борхесовским. Кто следующий окажется под вопросом?
Что общего у тотальной ревизии истории и ездой на велосипеде: и там и там, чтобы не упасть, надо крутить педали все время, не останавливаясь. Так что мне тоже требовалось время на их осмысление. Да-да, я закругляюсь.
Чем дольше я писал книгу, тем больше понимал, что она превращается в книгу про меня — носителя обыденного сознания, который инфицирован странным вирусом, пытается ему сопротивляться, но иммунитет не вырабатывается.
В конце концов, это ведь то же Паскалево пари — верить в «Новую хронологию» выгоднее, чем не верить: вы ничего особенного не теряете, зато — особенно если родились в России — в случае верности теории приобретаете очень много.
То есть это еще и история интеллектуального грехопадения, вызванного столкновением со странным событием, возможность которого отрицается всеми экспертами. Но что такое эксперты? Сейчас идеи Фоменко вызывают смех или аллергию, а первую его статью о несообразностях хронологии печатал Лотман в «Тартуских записках».
Мне же приходилось, когда я был литературным критиком, тоже высказывать суждения, опираясь исключительно на свой вкус, на свои представления о каноне. Но что такое литературная критика по сравнению с историей; peanuts. Ну залезу я на табуретку и заявлю я, что, там, Улицкая или Аксенов — это не литература, а «Доктор Живаго» — графомания; например, можно другие имена подставить. Ну да, это странно, это может свидетельствовать о моей эксцентричности; меня может подвергнуть остракизму профессиональное сообщество, усомниться — еще больше, чем сейчас, — в моей компетентности. Подумаешь. И совсем другое дело, если я заявлю, что Япония на самом деле долгое время была колонией России. Вот у такого заявления возникает уже и политический шлейф — и последствия. Мы ведь осознаем, что вся существующая «история» направлена только на одно — на сохранение существующего положения дел, поддержание нынешнего неравенства. Да, на Британских островах климат лучше, чем под Архангельском, — но если англичане пришли в Англию не так уж давно, то почему бы не пересмотреть итоги приватизации?
На самом деле мне хотелось бы не то что даже реабилитировать в общественном сознании фигуру Фоменко, этого абсолютного еретика, придумавшего целую вселенную — как Лукас — «Star Wars», — а скорее рассказать о приключениях одной потенциально сверхважной идеи — разумеется, через биографию, через историю жизни одного конкретного человека, нашего с вами современника. Это будет история о том, по каким законам идеи циркулируют в обществе — почему одни принимаются, тиражируются, вызывают интеллектуальные эпидемии — а другие признаются еретическими. Почему научные революции иногда происходят — а иногда нет. Но как объяснить тем, кто потратил жизнь на знакомство с одной картиной мира, которая вполне их удовлетворяет, что все, к чему они привыкли, — чушь? И сколько, спрашивается, шансов у того, кто начнет хватать их на улице за пуговицы и кричать — постойте: все неправильно, сейчас я расскажу вам, как было на самом деле!
Эти все разговоры мои с академиком привели к тому, что я стал шататься по всяким странным, неочевидным местам и смотреть — интересно же самому проверить. Перед первым моим выездом, по-моему, в Сирию (которая у него, по сути, и есть Рос-си-я, Си-рия, Дамаск, Да Москва) я попросил у него совета: ну хорошо, Анатолий Тимофеевич, а вот на что обращать внимание? к чему приглядываться? И он сказал две вещи — шокировавшие меня своей нелепостью, — которые я тем не менее запомнил. Первая: «Заглядывайте статуям за спины». И вторая: «Ищите повсюду следы Куликовской битвы».
Поначалу я воспринял их буквально — ну и пожал плечами, конечно; сумасшедший, что возьмешь.
Со временем, однако ж, я стал воспринимать их — чем дальше, тем больше — метафорически: как такой дзенский, пробуждающий хлопок ладонями перед лицом.
Не веришь, что античность — это Средневековье, а Египет — усыпальница русских царей, — ладно, не надо, черт с тобой. Но не отворачивайся, смотри; езжай и смотри.
Я смотрел — и видел: видел кресты на гробницах Ахеменидов в Иране. Видел в Ливане каменные блоки, из которых построены храмы Баальбека, — знаете, какого они размера? С пятиэтажку нашу. До нашей эры. Сам, своими глазами наблюдал, как во время тахрирских событий, пока в стране нет иностранцев, египтяне достраивают свои пирамиды — с кранами, с бетономешалками, пока никто не видит. А явный курган около Эйвбери в Англии — огромный курганище почему-то обнесен изгородью, даже ступить на него нельзя, не то что… Якобы что-то там можно нарушить. Почему, спрашиваю, не копают? «Нет средств». На то, чтобы Адрианов вал восстанавливать — я прошел вдоль всей стены, от Карлайла до Ньюкасла, — есть средства, а чтобы Эйвбери раскопать… Странно, нет? А Британский музей? Вы что думаете, все мумии выглядят как Тутанхамон, «типично египетскими»? Неа — как бы не так. Мы про все ведь думаем — ах, какое оно древнее, ах, какая старинная традиция. Вы знаете, к примеру, когда родилась традиция зажигать олимпийский огонь и передавать факел по эстафете?
— О, олимпийский огонь — это его любимый конек…
— Тьфу на вас. Ну что — в Древней Греции? Античность? В 1936 году она родилась! В Берлине на Олимпиаде — не хотите?
— Лев, ну вы все-таки…
— Время, да? Уже? Заканчиваю!.. Смысл проекта — продемонстрировать, что правда непостоянна. Если хотите, меня интересует гуманитарная «окончательная теория» — ну знаете, как вот сейчас пытаются состыковать квантовую механику и теорию относительности…
— Послушайте, но уши же вянут, это же какое-то мракобесие, издевательство над наукой, а!
— Наука! Наука — репрессивная система, инструмент подавления правды. Вся наука, философия, религия работают не на поиски правды, а на ее подавление — и вытеснение.
— Да какая еще наука! Нет абстрактной науки, есть люди, конкретные ученые, вы их, что ли, во вранье обвиняете? Да они вам за правду знаете что…
— Конкретные ученые — может быть. Даже наверняка. Но и они — часть коллектива. А коллектив, мы все, используем науку, чтобы подавлять воспоминания о подлинной истории, о катастрофе… У правды и гравитации есть много общего: и та и другая — непостоянны!
— Стоп-стоп, спасибо, мы же договаривались, что все выступления длятся по 10 минут, а вы и так уже почти .. О-го-го, да тут…. Вынужден прервать вас.
— Правда? Ух, ну я и… Заврался…
— Следующий, пожалуйста.
Вердикт:
В финансировании отказать.