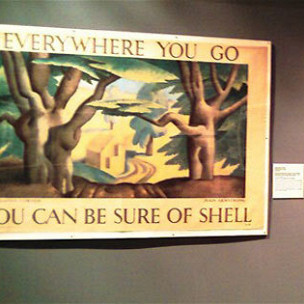— Для российских современных художников попасть в Пушкинский при жизни — пожалуй, самая высокая честь, которая означает статус живого классика. Каково вам висеть рядом со старыми мастерами — учитывая, что к работам многих из них вы обращались?
— Я прекрасно понимаю оказанную мне честь: Пушкинский — один из лучших музеев мира. И очень рад, что мне при жизни была предоставлена возможность провести собственную выставку там. Учитывая, что я живу в одно и то же время с посетителями, которые приходят смотреть на мои работы.
— У вашего проекта много смыслов; вы в том числе рефлексируете на тему того, что Япония не переживала европейскую историю искусства, — она стала ее достоянием только в XX веке, и для вашей культуры религиозная живопись Ренессанса и импрессионизм — явления одного порядка. Но что лично изменилось в вашем восприятии западного искусства после того, как вы сами себя впихнули в картины мастеров из разных исторических эпох?
— Я действительно в последнее время много думаю о том, что в эпоху правления императоров Мэйдзи и Тайсе в XIX — начале XX века в нашу страну пришло европейское искусство. В самой Японии появилось много художников, которые стали работать в новом для них стиле в процессе заимствования европейской культуры. Но при этом они как будто бы совершали ошибки — заимствовали несколько неправильно. Именно в этих ошибках и есть что-то новое, уникальное.
То же самое касается и моих вещей, темой которых является европейская живопись. Может быть, в своих интерпретациях я тоже совершаю какие-то ошибки. Возможно, со мной происходит то же, что с художниками Мэйдзи и Тайсе, — и в результате появляется что-то интересное.

— Суть вашего творчества — автопортреты. А что вы думаете про селфи?
— Молодежь очень увлечена этим. И наверное, есть что-то общее между селфи и моими автопортретами. Но вы знаете, на самом деле я очень робкий. Меня часто спрашивают: а вы в детстве, наверное, любили выступать для публики, играть в спектаклях? Но нет, я был очень тихим и спокойным ребенком, не стремившимся попасть в центр внимания. Когда я повторил портрет Ван Гога в 1985 году — это была моя первая вещь в череде исторических автопортретов, — то на самом деле я очень стеснялся. И долго колебался, стоит ли представлять его широкой публике. Я даже завидую сегодняшней молодежи: они лишены моих страхов, у них нет необходимости пересиливать себя. Селфи делаются и выставляются с большей легкостью, если сравнивать их с моими работами.
— С чем связаны эти ваши переживания? Вам не нравится, как вы выглядите?
— В начале карьеры я действительно сильно волновался по поводу того, как выгляжу. Естественно, я хотел быть красивым на фотографиях, делал уйму лишних дублей. Бывает, что я пересматриваю эти дубли двадцатилетней давности и думаю, что ошибся в выборе кадра. С другой стороны, идеальный образ не вызывает такого эмоционального отклика у зрителей, а несовершенство придает человечность и очарование. Поэтому в последнее время я изменил свой подход — больше не стремлюсь запечатлеть идеального себя.

— Один критик поэтично написал, что вы рисуете картины про картины — и создаете фотографии про фотографии. XIX век вы показываете через реплики картин, которые, как вы говорите, сильнее всего отражают дух того времени, а XX — через реплики фотографий. Какое медиа, как вам кажется, лучше подходит нашему — XXI веку?
— Это естественно, что способы выразительности меняются от эпохи к эпохе. Одна из главных особенностей XXI века — распространение цифровых технологий. Я часто размышляю о том, должен ли я больше соответствовать времени? В таких случаях я всегда вспоминаю тех деятелей искусства, что жили в переломные моменты. Например, Гойя. В его время в Испанию пришли веяния французского Просвещения. Что же он сделал? В результате его раздумий о том, как по-новому представить мрачноватую испанскую традицию, появились его революционные произведения. Или, например, Антон Чехов — вы лучше разбираетесь в этом, — тоже удалось сохранить безграничную любовь к уходящему веку.
— Вы перевоплощались в политиков, художников, актрис 1920-х. Если бы пришлось выбрать одного человека, который стал квинтэссенцией XX века, то кто бы это был?
— XX век определили три вещи: это русская революция, фашизм и Америка. Если выбирать персонажей, то это Ленин, Гитлер и Монро.

— Как вы понимаете красоту и насколько тесно она связана с переживанием вашей собственной сексуальности?
— Красота — очень широкое понятие. Дело в том, что в японском языке есть два слова, которые переводятся как «красивый». Это «уцукуси» (美しい) и «кирей» (綺麗). Про свежий и белый снег можно сказать «кирей». Но как только изменится погода и он подтает, то про него уже нельзя сказать «кирей». А если снег растает, на нем появятся человеческие следы, но придет художник и сфотографирует его, то это произведение искусства будет «уцукуси».
Второй ваш вопрос о сексуальности. Я думаю, что внутри каждого из нас — во мне, в вас — существует одновременно много разных людей. Есть и мужчина, и женщина, и животное, и растение. Именно то, что в нас есть все эти компоненты, и делает нас сексуальными. А я могу создавать свои произведения, периодически показывая эти стороны в себе, становясь то мужчиной, то женщиной, то стариком.
— Вам, наверное, известно о последних скандалах, связанных с реакцией на искусство в России? Про закон об оскорбленных чувствах верующих, об обвинении выставки Джока Стерджеса в пропаганде педофилии и нападках на выставку Яна Фабра в Эрмитаже. Не думали ли вы о том, что ваша выставка кого-то может оскорбить в Москве? И насколько, по-вашему, художнику важно учитывать потенциальную реакцию общества на искусство?
— Искусство — особая область общественной жизни. Например, убийство: для цивилизации это неприемлемо, это табу, но в своем романе «Преступление и наказание» Достоевский убивает человека. Получается, что в мире искусства это делать можно. Именно это отличает искусство от жизни: если начать относиться к нему как к другим сферам жизни, то оно перестанет выполнять свои функции. Тогда встанет следующий вопрос: значит ли это, что в искусстве можно делать все что угодно? Для искусства очень важен так называемый критический дух, умение посмотреть на общество со стороны. Если мы опираемся на дух критики в искусстве, то можно делать все. По крайней мере так я всегда думал.

— И как вы тогда для себя определяете искусство?
— Во всех сферах общественной жизни есть определенная функция и роль — во всех, кроме искусства. Хотя косвенным образом оно может служить кому-то на пользу. Если вы смотрите на заходящее солнце и испытываете эстетическое волнение, то в этом нет никакого практического смысла. Вот и искусство рождает похожие чувства.
А на вопрос об определении я отвечу так: главное, чтобы автор был уверен в том, что он создает произведение искусства. Я часто смотрю на то, что делаю, и думаю — а это вообще искусство? Конечно же, я хочу, чтобы и люди видели в моих работах искусство. Если кто-то видит в объекте произведение искусства, то это искусство.