— Ваша книга очень жестко выстроена; такое впечатление, что в ней нет ничего случайного. Как вы ее писали — если не считать фактов, известных из других интервью: мы знаем, сколько времени у вас на это ушло, знаем, что вы порвали практически все связи с внешним миром по ходу ее создания. Но как вы ее продумывали, как организовывали время; писали ли ее по порядку или кусками, которые были собраны в единое целое потом?
— Я редко пишу что‑либо по порядку, но эту книгу как раз писала именно так. Единственная пауза возникла, когда я приступала к Части II и стало понятно, что надо уяснить ряд вопросов о карьерах мальчиков — в частности, Джуда, про это я понимала меньше всего. Поэтому мне пришлось прервать процесс примерно на шесть недель, пока я расспрашивала разных людей. Эти разговоры многое прояснили в юридической жизни Джуда, в том числе его профессиональную карьеру. Я изначально представляла себе, что он будет ведущим юристом — или, может быть, «квантом» — в хедж-фонде, но когда я яснее поняла, что это за работа, ее детали не вписались в логику тех занятий, которые я хотела ему дать.
Я пишу — я так делаю со всем или почти со всем — сначала последние фразы; мне кажется, это полезный прием. Роман может пойти по огромному количеству путей и протоков. Но если знаешь путь назначения заранее, это помогает отсеять некоторые варианты (и отклонения). А в остальном книга писалась по порядку. Я не думаю, что так надо писать всегда, но эта книга пытается создать настроение, которое становится темнее и безжалостнее по ходу дела, и это было необходимо.
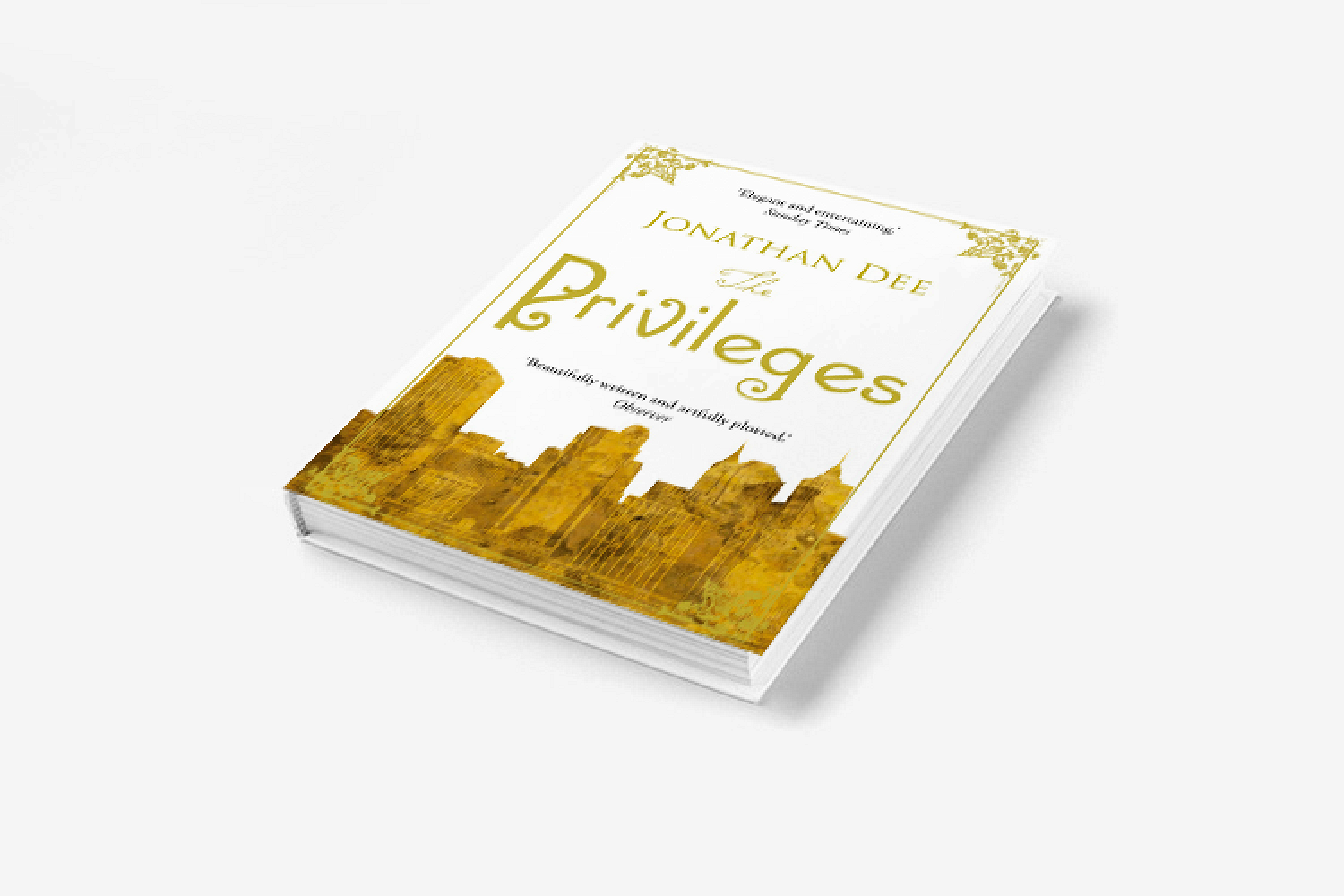
— Когда Пушкин писал «Евгения Онегина», он однажды заметил, что «в нашем романе время расчислено по календарю». (К сожалению, это одна из прекрасных книг, которая на других языках может предстать только бледной тенью.) Так или иначе, специалисты и читатели до сих пор спорят о временной структуре «Онегина». В «Маленькой жизни» нет точного времени, однако есть определенные знаки — даты, которые приходятся на те или иные дни недели и так далее. В сети есть ряд теорий, которые пытаются воспользоваться этими данными и построить какую‑то хронологию. Использовали ли вы какую‑то внутреннюю временную шкалу? (Исследователь, который найдет эту информацию, в любом случае будет вынужден перевести ее с русского языка.)
— Стыдно признаться, я никогда не читала «Онегина», но это замечательная деталь. Отсутствие дат в моей книге поставило в тупик многих читателей, хотя, я думаю, дело здесь все-таки не в том, что не названы конкретные годы, а в том, что нет истории. Многие романы, если вдуматься, не называют конкретные годы. Но в них достаточно исторических или социальных признаков, которые помогают читателю понять, в каком времени он находится. А здесь такого не происходит.
Я заранее понимала, что в «Маленькой жизни» не будет не только лет, но и текущей истории; я понимала, что это будет повествование без СПИДа, без 9/11, без финансового кризиса 2008 года, без президентов, без законов. Мне уже приходилось говорить, что когда убираешь эти вещи из повествования, которое кажется современным реалистическим романом, ты в результате ставишь читателя в пределы очень маленького и очень конкретного мира — эмоционального мира героев. Читателю больше некуда деваться, нельзя ничего объяснить внешними событиями. Он не может сказать: «Ну герои так поступают, потому что дело происходит сразу после 9/11 и страна в шоке». Единственное, что остается настоящим, — это мир героев и все, что происходит в их жизни.
Недавний роман, который творчески обращается со временем, — это «Привилегии» Джонатана Ди. Книга была опубликована вскоре после финансового кризиса 2008 года, и каждая глава как будто написана в настоящем времени: хотя речь идет о долгом браке героев, есть ощущение, что книгу можно нарезать на куски, бросить их в воздух, выстроить в другом порядке, и смысл не исчезнет — это мастерски сделано. Но при этом ты понимаешь, что книга отвечает на конкретный момент в культуре, на конкретную финансовую ситуацию.
Отсутствие подобных ориентиров в «Маленькой жизни» придает книге, я надеюсь, черты сновидения, искусственности, притчи. Оно также оставляет у читателя ощущение некоторой непривязанности. Я не только хотела отделить мир этой книги от — ну, скажем, от некоторых аспектов нашего мира; я хотела, чтобы время шло с разной скоростью в разных точках рассказа. Более ранние части кажутся тягучими, спокойными; более поздние должны ощущаться как задыхающиеся.
Но у времени и дат есть свое место в этом повествовании. Только даты, которые я выбрала в качестве стабилизирующих, имеют для героев эмоциональное значение: это их дни рождения, День благодарения, День труда. Я специально выбирала светские, именно американские даты, вокруг которых строятся их календари, и каждая из дат определяется каким‑то осмысленным взаимодействием между персонажами.
Я не знала, что читатели пытаются реконструировать хронологию, но хотя мне это лестно, смысла в этом, пожалуй, нет, потому что у меня не было никакой конкретной даты начала или конца. Но некоторые привязки все-таки есть — и они выражаются исключительно в виде имен художников. Вероятно, это слишком неясная ссылка для большинства, но в первой части друзья (без Джуда) приходят в квартиру родителей сослуживца Джей-Би, и Виллем с Малкольмом восхищаются художественной коллекцией родителей, в том числе фотографиями Арбус, Буртинского, Бехеров —ровно такая коллекция начинающего, которую богатый человек мог бы купить с помощью консультанта по искусству в начале двухтысячных. Но это не значит, что книга кончается через тридцать лет после двухтысячных — финал книги не обязательно помещается в 2030-х годах. Так может быть. Но это могут быть 2020-е, 2050-е или вообще какая‑то неопределенная эпоха. Вы этого не узнаете — и я надеюсь, что к этому моменту вам будет не до того.
Манипулируя временем, я знала, что некоторых читателей это будет отвлекать, а другие просто забудут об этом. Знала я и то, что мне придется пойти на определенные уступки. Например, все персонажи разговаривают по телефону гораздо больше, чем мы это делаем в наши дни, даже когда я это писала. По мере продвижения рассказа тяготение текстовых сообщений немного усиливается, но СМС и другие сообщения, как правило, неудовлетворительны литературно, поэтому я удерживала героев у телефона дольше, чем это происходит в жизни. Когда Джуд живет с братом Лукой, там упоминается компьютер, подразумевается интернет или какой‑то цифровой мир — но, опять-таки, это не значит, что Джуд был ребенком в середине 90-х (Джей-Би и Малкольм разговаривают, например, тем языком, который я использовала в своем гуманитарном колледже в середине 90-х). Время здесь подчиняется иному метроному и иногда совсем останавливается.
С практической точки зрения это означало, что я удерживала в уме историю и передвижения в пространстве своих героев, привязывая их не к конкретным годам, а скорее к конкретным личным ориентирам. До IV Части каждый раздел перепрыгивает через очередные пять лет. Поэтому я стала думать о Части I как о Нулевом годе и считала вместо лет возраст героев: Джуду 23, остальным по 25. В Части II Джуд на рубеже тридцатилетия, а остальным 32 или вот-вот исполнится 32. Иными словами, календарь, который я использовала, существовал, но эти календари были привязаны к героям и событиям в их жизни. За Виллемом, например, было в известном смысле проще всего следить, потому что его работа четко делит год на сегменты. У меня был заведен для него отдельный документ, по которому я следила, когда он закончит сниматься в определенном фильме, когда ему пора вернуться на дополнительные съемки, когда фильм выходит в прокат. Я постоянно считала месяцы и недели, особенно по мере того, как повествование шло вперед и время начинало перескакивать туда-сюда, как начинает происходить в Части III. Еще мне нужно было понимать, что происходило в их жизни в те пятилетние отрезки, которых мы не видим; многие из этих событий упоминаются, когда мы снова встречаемся с персонажами, но некоторые детали остаются непроясненными. Например, когда Джуд живет в квартире Виллема: читатель знает, что это происходит, но не видит ничего, что относилось бы к этим месяцам. Но я знала, какой была его жизнь там, и читатель тоже должен чувствовать, что я это знаю.
— Россия несколько раз упоминается в «Маленькой жизни», в основном в связи с Виллемом: он играет в «Дяде Ване» и в шпионском фильме, действие которого происходит в Москве 1960-х (кстати, судя по всему, в 1960-е практически никакой шпионской деятельности американцы в России не вели), и в фильме о Рудольфе Нурееве; Джуд придумывает фильм, который спонсирует русский олигарх, возможно, сумасшедший, и Виллем в нем отправляется в космос; Джуд и Виллем шутя называют друг друга на русский манер, по имени-отчеству. Кроме того, мачеха Гарольда Адель — из русской семьи. Каков ваш собственный опыт общения с русской культурой? В чьих переводах вы читали любимые русские книги?
— Американский читатель растет с двумя образами России: далекой угрозой холодной войны 1980-х и романтическим отчаянием романа XIX века.
Мое собственное знакомство с Россией ограниченно. Мой отец гораздо сильнее интересовался Востоком, и поэтому значительная часть литературы, истории, кино, которую я потребляла в годы взросления, была связана с Японией, Китаем или Индией. Но все же, как и у многих других американцев, один из моих формирующих опытов в литературе был связан с Набоковым, писателем, который наслаждался игрой со своим новым языком, чью игру с английским на странице нетрудно отследить. Мой любимый его роман, наверное, и самый русский: «Пнин». Это и грустный гимн иммигранта во славу Америки, и отсылка к поэтической русской меланхолии.
У меня есть теория, что каждый ценитель литературы любит какого‑то одного русского писателя: поклонники Гоголя не любят Толстого, например, а толстовцы считают, что Достоевский — слегка дутая фигура. Я сама привержена Чехову (отчасти потому, что он был врачом, а я всегда интересовалась тем, как думают врачи). Недавно я перечитывала «Чайку», «Вишневый сад» и «Дядю Ваню» в переводе Майкла Хейма, но моя любимая интерпретация «Дяди Вани», которой я отдаю дань в «Маленькой жизни», — это адаптация Дэвида Мамета в постановке Андре Грегори, по которой режиссер Луи Маль снял фильм «Ваня с 42-й улицы».
— Вы не могли бы сказать несколько слов о Джареде Холте, которому посвящена «Маленькая жизнь»?
— Он не только самый благородный, сострадающий, прощающий и упрямо моральный человек, которого я знаю; он еще и подарил мне великий дар переосмысления дружбы и ее границ. Я знаю, что все, что я могу ему сказать или открыть, будет воспринято вдумчиво и по-доброму. Его дружба и наши обсуждения того, что такое дружба, так повлияли на эту книгу, что с философской точки зрения я считаю его соавтором. А еще он блестящий редактор — он прекрасно чувствует логику, язык, ритм, структуру — и внимательный, терпеливый читатель.

В сети уже начали кастинг на роль Джуда. В читательском голосовании пока лидируют Эдди Редмейн

Рами Малек

и Бен Уишоу
— В своих интервью вы утверждаете, что мужчины менее способны к выражению эмоций, хуже прорабатывают свои проблемы и провалы, чем женщины. Можете пояснить?
— Дело не в том, что мужчины меньше эмоционально оснащены для самовыражения; дело в том, что подобное красноречие не приветствуется. Я вообще не могу вспомнить никакой культуры, где мужчинам позволялось бы открыто выражать страх, стыд, смущение: эти чувства считаются противоположными самой практике мужественности. В глобальном контексте мы приравниваем силу к стоицизму (за исключением определенных случаев и определенных сфер) и, поступая так, лишаем мужчин возможности выражать полный спектр человеческих эмоций. А у этого, конечно, есть разрушительные последствия, и они касаются не только мужчин, но и женщин.
— Ходят слухи о телесериале по «Маленькой жизни»; режиссер уже выбран, и вы, кажется, поддерживаете этот замысел. Как вам кажется, как такой сериал может выглядеть? В вашем романе проходит почти 50 лет — что с этим будут делать телевизионщики? Как они поступят с «вневременными» свойствами вашего текста?
— Ну если сериал случится (а права пока не куплены, так что точно это не известно), я буду сценаристом и одним из исполнительных продюсеров. Я надеюсь, что сериал (если он состоится) не будет прямым переводом, а скорее интерпретацией, верной тону, чувствам, идеям книги, но без рабского и буквального следования сюжету. Если бы мне дали волю, например, целая серия была бы посвящена Джуду и Виллему, и в ней были бы диалоги и места, которых нет в книге. Еще я надеюсь, что любая постановка сможет сохранить вневременные особенности книги. Как я уже замечала в других интервью, в «Маленькой жизни» многое происходит в помещении — в комнатах мотеля, в квартирах, в офисах, в студиях, — иными словами, в таких помещениях, над которыми у внешнего мира ограниченная власть (со всеми оговорками). В идеале в кинематографической форме у этого появилась бы свежая интерпретация, как и у фантомов и призраков Джуда, которые, кажется, можно передать через какие‑то сюрреалистические картины.
— Слышали ли вы голоса своих персонажей, когда писали роман, знали ли, говорят ли они быстро или медленно, громко или тихо? Нам как переводчикам было особенно важно почувствовать голос персонажа, ритм, конструкцию фразы; если это происходит, переводить легче. Вы видите и слышите своих героев? Как вы представляли себе Виллема, Малкольма, Джей-Би и Джуда? Видели ли вы их где‑нибудь, как Джейн Остен однажды увидела миссис Бингли из «Гордости и предубеждени»: «Миссис Бингли в точности на себя похожа — та же фигура, те же черты и очертания лица, та же приятность, лучше сходства и не сыщешь»?
— Я их не вижу и не видела, но слышать — слышала, и хотя книга написана в рамках того, что я стала по ходу дела считать теплым всезнанием третьего лица — «теплым» в смысле близким, не обязательно дружелюбным, — я надеюсь, что авторский голос немного меняется для каждого персонажа. В разделах Джей-Би, например, тон становится более искривленным, суховатым, несколько более забористым; вокруг Малкольма — более нервозным; а вокруг Виллема — прямолинейным и менее детализованным. У Джей-Би, по моему ощущению, есть деланая тягучесть интонации.
Джуд говорит меньше всех в книге, но читатель, конечно, близко и постоянно следит и следует за ним. Он должен быть очень тихим человеком, и потому что он постоянно культивирует вокруг себя ощущение порядка, и вследствие неспособности говорить о ряде предметов. Это ощущение самоконтроля, я надеюсь, проявляется, например, и в его нежелании произносить бранные слова; до Части VI он не использует ругательств сильнее чем «черт». Многие читатели этого вовсе не заметят, но я хотела, чтобы за его способом самовыражения, особенно его неспособностью выражать гнев — даже бытовой — стояло это чувство несгибаемости и точности.
— Какие части книги вы писали на одном дыхании, а какие были сложны, и почему? Одному из нас вспоминается, как трудно было со сценой, когда Виллем признает свои чувства к Джуду, хотя жуткая (казалось бы) сцена с Калебом перевелась как будто сама собой?
— Все сцены детства Джуда писались очень быстро, особенно сцена у доктора Трейлора, которую, как мне помнится, я написала за одну ночь. Может быть, это не так, но я так запомнила: я была в маленькой, дешевой гостинице возле токийского аэропорта Ханеда, и я точно помню, что шел дождь и я ела печенье, которое люблю есть на ужин, и писала, писала, пока не заснула. Часть, где у Джуда проблемы со здоровьем и он теряет ноги, тоже написалась быстро, и я ее люблю больше многих других. И я надеюсь, читателю очевидно, как мне было приятно писать про Джей-Би: его раздел в Части III и раздел про ампутацию Джуда были, пожалуй, самыми удовлетворительными и осмысленными в ходе создания.
Я думаю, можно сказать, что к Части VI меня уже слегка потряхивало, но и она написалась легко. А Часть VII я целиком написала за одни выходные. Труднее всего было писать те главы — и их мы с Джаредом обсуждали больше всего, — где речь шла о сексуальной жизни Джуда и Виллема: ощущаются ли они правдивыми? Насколько виновен Виллем в том, что Джуд распадается на части? Передаю ли я, насколько глубок конфликт, связанный с сексом, в жизни Джуда? Мы все время возвращались к этим вопросам, и эти разделы я переписывала и редактировала больше всего.
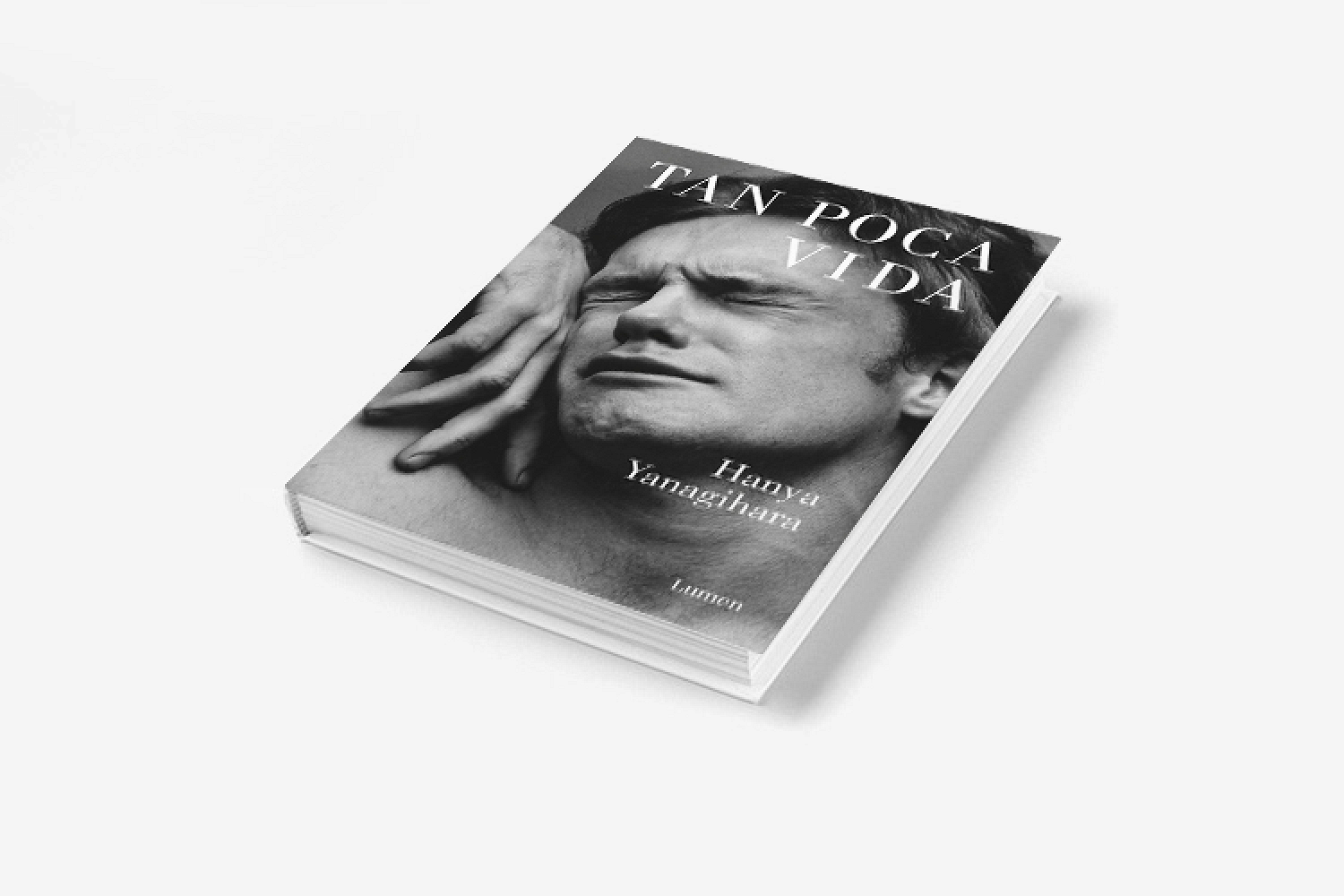
— Кто рассказывает эту историю? Как вы представляли себе голос автора в этой книге? Иногда кажется, что мы смотрим с позиций камеры: нет эмоций, но все очень кинематографично — настолько, что невозможно отвернуться, нужно только фиксировать. Роман написан очень клинично — безэмоционально, ясно, чисто; этот голос сформировался как‑то сам по себе, вы так его услышали? Или это было уже намеренное, осознанное отстранение?
— Я надеюсь, что всезнающий голос здесь кажется не столько клиничным, сколько отчетливо неосуждающим. Рассказчик всевидящ, как обычно бывает при всезнающем голосе, но — я надеюсь — не отстранен. Он внимателен к деталям. Он пытается разглядеть и понять настроения и эмоции героев. Он часто пытается сформулировать то, что герои сами сформулировать не могут, и в этом смысле выступает как свидетель и как участник. Но в конечном счете он не принимает никаких решений, не делает никаких выводов. И он никогда не предполагает, что Джуд не вполне человек, не вполне мужчина, даже если сам Джуд так думает. Он дает ему личность и нечто более всеохватное — человечность.
— Какие самые интересные вопросы задавали вам переводчики? Чего вы совсем не ожидали услышать, узнать?
— Я получала вопросы не от всех переводчиков, но мне это всегда приятно. Хороший переводчик не только часто обнаруживает серьезные ошибки; его внимательное чтение может столкнуть тебя с разного рода логическими или нарративными пробелами.
Больше всего вопросов было о роде местоимений — это напоминает нам о том, как легко относится к этому английский язык, как просто он переносит амбивалентный пол (и вообще амбивалентность). Меня всегда поражало, как нужно переводчикам «увидеть» что‑то, чтобы найти лучшие, самые правильные слова; например, на меня произвело впечатление ваше желание узнать, какая шапка на японском путнике с гравюры из Части V; голландцы же, например, очень интересовались устройством пожарного выхода — как он выглядит, спрашивали они; где сидит Джуд, и что ему нужно сделать, чтобы справиться с замком? Меня также впечатлило количество визуальных исследований, которые понадобились разным переводчикам: они всматривались и изучали те физические пространства, которые чисто американские и в этой книге такие иконографические: мотель, придорожное кафе для дальнобойщиков, квартира-лофт.
Интересно было смотреть и на то, как издатели шли на определенную свободу с переводом названия; например, испанское издание называется «Tan poca vida», что в переводе оказывается более поэтичным (и романтичным) вариантом — «Такая маленькая жизнь». А немцы потом от этого отказались, но сначала книга называлась «Etwas Leben», «Некая жизнь», и мне это очень нравилось.
В книге очень мало игры слов, но в оригинальном названии, «A Little Life», есть двойное значение (маленькая жизнь/немного жизни), хотя, наверное, на другие языки это нельзя вполне перевести.
— А вы для себя знали, кто такой Джуд? Кто его родители, почему его бросили, какая у него этническая принадлежность? (Разумеется, мы не просим ответа на этот вопрос — в любом случае ни мы, ни наши читатели не нуждаемся в таком ответе; но нам интересно, знали ли вы эти подробности.)
— Да, знаю и всегда знала. Я все время думала, не спросит ли меня кто‑нибудь, почему Джуд так и не пытается определить свое этническое происхождение; в конце концов, такие вещи несложны в эпоху, в которой он живет (и мы живем). Но я ощущала, что такая информация будет для него лишней; в своих желаниях Джуд дисциплинирован, и я понимала, что он даже не позволит себе представлять, кем он мог бы быть или кем были его родители, — и что такое знание никак и ничего для него не изменило бы.
При этом я очень ясно представляю себе, как он выглядит, потому что в моих глазах он очень похож на запоминающегося мужчину, которого я встретила много лет назад в Аргентине. Мы жили в одном отеле, и он так отличался от всех, что я просто смотрела на него, когда была уверена, что он меня не видит. Я тогда думала, что расскажу о нем и он никогда этого не узнает. И вот рассказала.


