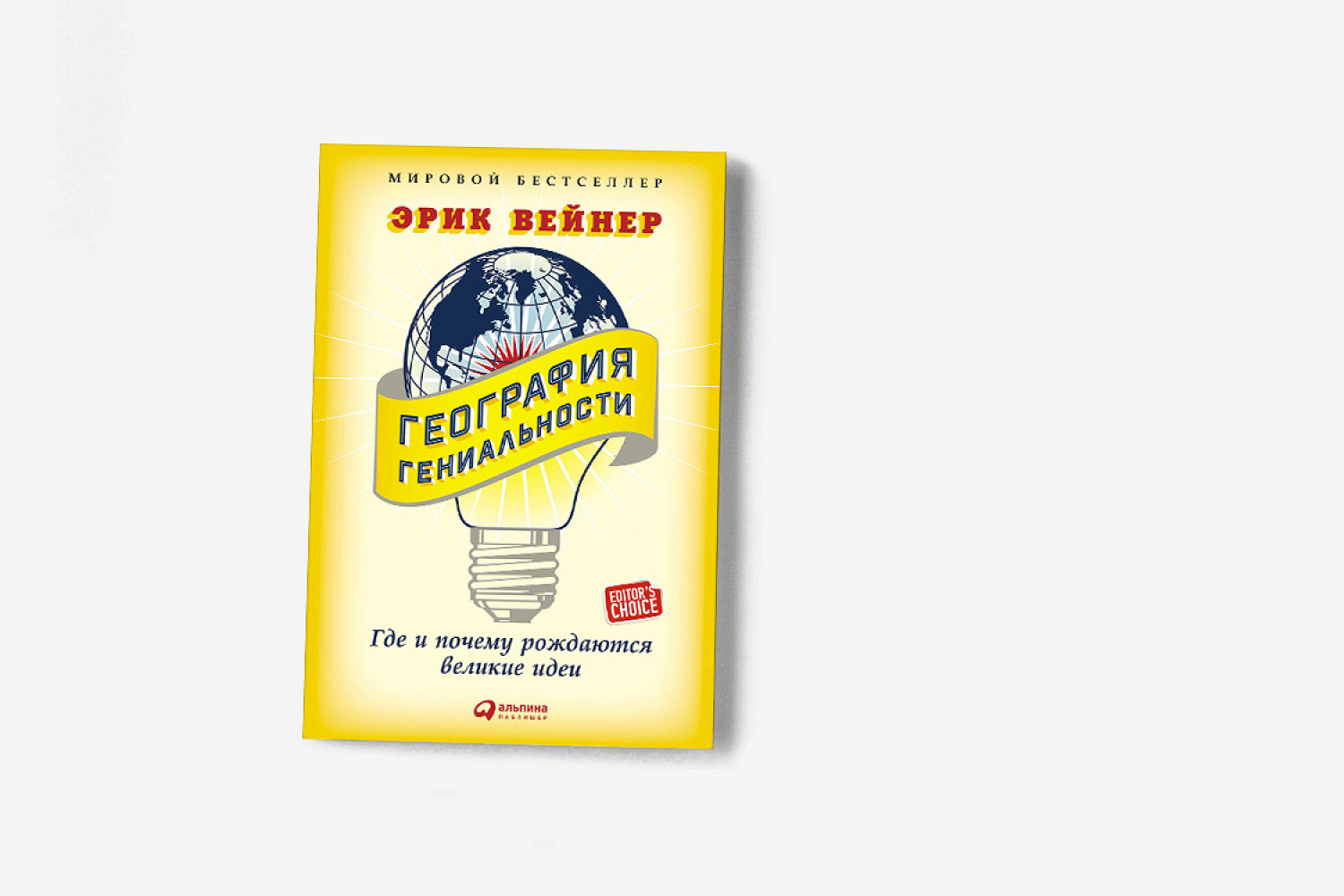Моцарт не узнал бы эту Вену. На дворе стоял 1900 год. Минуло столетие — и город разросся вдесятеро. Что только ни случилось за это время: и недолговечная революция, и вспышка холеры, и финансовый коллапс. Но число гениев поубавилось. Правда, был Брамс, но один гений не делает золотого века, а половина столетия, прошедшая после смерти Бетховена в 1827 году, не изобиловала звездными талантами. Казалось, Вена отбыла по той же улице с односторонним движением, что Афины с Флоренцией и прочие очаги гениальности. И вдруг — разворот на 180 градусов: все оживает заново. По совпадению новый подъем начался со строительства роскошного бульвара.
Рингштрассе («Кольцевая дорога») была самым амбициозным городским проектом после реконструкции Парижа — воплощением веры в прогресс, будоражившей умы. Новый император, Франц-Иосиф I, приказал разобрать старые средневековые стены, чтобы освободить место, по выражению одного историка, «этому прообразу Диснейленда». Новая улица явила городу сентиментально-оптимистическую мечту о завтрашнем дне. «Когда выходишь на новенькую Рингштрассе, — сказал в ту пору один водитель трамвая, — думаешь о будущем».
И будущее не замедлило явиться. Да какое будущее! Из всей этой плеяды гениев больше всего известен Фрейд, но ему составили славную компанию философ Людвиг Витгенштейн, художник Густав Климт, писатели Артур Шницлер и Стефан Цвейг, физик Эрнст Мах, композитор Густав Малер и многие другие. Если есть на свете место, имеющее право считаться колыбелью современного мира, то это Вена.
Гений Вены конца XIX — начала ХХ века состоял не в какой-то одной дисциплине, но в интеллектуальной и художественной энергии, заполнившей каждый уголок и закоулок города. Эта энергия распространялась со скоростью и буйством калифорнийского пожара. Вена неопровержимо доказывает, что творчество заразительно: гениальность порождает гениальность. Все, что мы считаем современными благами — архитектура и мода, технология и экономика, — восходит к элегантным, извилистым и многолюдным улочкам Вены той эпохи.
Движущей силой нежданного Возрождения оказалась группа иммигрантов. Эти изгои, съехавшиеся с отдаленных окраин Австро-Венгерской империи, принесли с собой грубую амбициозность и новые идеи. Венская и еврейская история столь же нераздельны, сколь нераздельны композитор и фортепьяно. Но как эти чужаки, эти «Другие», сыграли столь значимую роль во втором акте венского золотого века?
С этим вопросом на уме я вхожу в кафе Sperl, расположенное неподалеку от Рингштрассе. Войти в Sperl — значит, вернуться в прошлое. Владельцы кафе воспротивились искушению переделать антураж на современный лад: нет ни рельсовых светильников, ни вайфая, ни бариста. Лишь простые деревянные прилавки и суховатые официантки. На одном из бильярдных столиков сложены газеты, причем каждая подшивка скреплена длинной деревянной рейкой. Таким образом, можно ознакомиться с последними новостями.
Я пришел сюда не только за кофеином. Рассказ о венском гении был бы неполон без рассказа об этой кофейне. История города написана на ее столах, испачканных сигаретным пеплом, и на лицах ее строгих, но симпатичных официанток. Ее стены и террасы видели немало венских гениев. В кафе Sperl Густав Климт со своей веселой группой художников основал Венский сецессион, положив начало самобытному венскому варианту модерна. Разрыв с прошлым хорошо ознаменовался знаменитыми словами Климта: «Каждому веку — свое искусство, каждому искусству — своя свобода».
Подобно концертному залу, венская кофейня была (и остается) секулярным собором, инкубатором идей, интеллектуальным перекрестком — иными словами, институтом, который не меньше отражает дух города, чем опера или яблочный штрудель. Она также составляет важную часть нашего пазла-головоломки, ибо некоторые из лучших (и худших тоже) идей города впервые были опробованы в ее прокуренных залах. Что же сделало венскую кофейню столь особым местом? Как заведение, где подают кофейные напитки, способно стимулировать золотой век, который изменил не только сам мир, но и наш взгляд на мир?
Кофейню изобрели не в Вене. Первая кофейня появилась в Константинополе (ныне Стамбул) в 1554 году. На Запад она пришла почти столетием позже: предприимчивый молодой человек по имени Яков открыл в английском Оксфорде свое заведение, где подавали «горький черный напиток». Поначалу на кофе косились с опаской: его считали «революционным напитком», способным возбуждать массы, — ведь под воздействием кофе люди становились энергичнее, а кто знает, куда эта активность может завести! Вскоре после открытия кофейни король Карл II издал указ, ограничивающий число ее посетителей. И ничего удивительного: в воздухе носились идеи демократии. Кофейни именовались не иначе как «уравнителями»: в них захаживали самые разные люди. В их стенах не было людей более высокого и более низкого сорта.
Так обстояло дело и в венской кофейне. «В сущности, это своеобразный демократический клуб, где кто угодно, потратив гроши на чашечку дешевого кофе, может сидеть часами», — рассказывает Стефан Цвейг в своих замечательных мемуарах «Вчерашний мир». Что привлекало людей? Для начала — теплая зала. В то время население Вены увеличилось, квартир не хватало — и некоторым людям приходилось селиться в зоопарке. Счастливцы же, обретшие апартаменты, тоже не роскошествовали: квартиры были маленькими, со сквозняками и часто не отапливались.
Кроме того, люди получали информацию. Много информации. Всякая уважающая себя кофейня предлагала последние номера газет. Газеты крепились к длинным деревянным рейкам (как и в наши дни). Так можно было узнать, что происходит на соседней улице или на другом конце земного шара. А, как мы уже поняли во Флоренции, новая информация чрезвычайно важна. Самой по себе ее недостаточно, чтобы породить золотой век, но без нее золотой век случается редко.
Кофейня полнилась не только новостями, но и мнениями. Как объясняет Стефан Цвейг, это была ходовая валюта того времени, пользующаяся оживленным спросом:
«Мы ежедневно просиживали там часами, и ничто не ускользало от нас. Ибо благодаря общности наших интересов мы следили за orbis pictus (буквально: «мир в картинках». — Прим. ред.) событий в мире искусства не двумя, а двадцатью или сорока глазами; что пропустил один, высмотрел другой; в нашем неуемном познании нового и новейшего мы по-детски хвастливо и с почти спортивным азартом стремились обставить один другого и прямо-таки ревновали друг друга к сенсациям».
Но прежде всего люди получали здесь общение и единомышленников, попутчиков. Завсегдатай кофейни был человеком особого типа — тем странным сочетанием интроверта и экстраверта, которое характерно для многих гениев. Как сказал Альфред Польгар в своем замечательном эссе «Теория кафе «Централь» (1927), ее обитатели — это «люди, чья враждебность к ближнему столь же велика, сколь и потребность в нем; которые хотят быть одни, но нуждаются для этого в компании». Отменно сказано. Так и представляется архипелаг одиноких душ: да, это острова — но острова, расположенные неподалеку друг от друга. И эта близость все меняет.
Венская кофейня — яркий пример «третьего места». «Третьи места» в отличие от первых двух (дома и работы) представляют собой нейтральное и неформальное пространство для встреч. Вспомните бар из сериала «Веселая компания» или любой английский паб. «Третьими местами» могут быть и другие заведения — парикмахерские, книжные магазины, пивные сады, кафе-столовые и универмаги. Их объединяет то, что все они — «освященные территории», «временные миры внутри мира обычного», как писал Йохан Хейзинга в своей книге «Человек играющий»*.
Болтовня, наполнявшая кофейни, чем-то напоминала импровизации музыкантов и комедийных групп. Эта форма разговора значительно лучше стимулировала хорошие идеи, чем бесконечные «творческие консультанты» со своими мозговыми штурмами. Само выражение «мозговой штурм» звучит заманчиво, но по сути толку мало. В пользу этого говорят десятки исследований. Люди порождают больше хороших идей — в два раза больше — наедине, чем совместно.
Одна из проблем мозгового штурма состоит в его искусственности: не встанем из-за стола, пока не придумаем нечто Великое. Необходимость создать Великое давит на психику, да и опирается мозговой штурм почти исключительно на внешнюю мотивацию. Все это малопродуктивно. В кофейне же обстановка была раскованнее: люди просто разговаривали, как в калькуттской адде, а не следовали пунктам программы. Как сказал Польгар, «пребывание освящается отсутствием цели».
Я не хочу сказать, что в кофейнях не возникали хорошие идеи, — очень даже возникали. Но они оформлялись впоследствии — когда рассеивался сигаретный дым, выводился кофеин, а новая информация прочно оседала в сознании. Мы собираем факты в компании других людей, но связываем их в единое целое самостоятельно.
Подчас самое простое объяснение и есть самое лучшее. Быть может, венскую кофейню сделало уникальным местом… кофе? Но увы: для таких кофеманов, как я, факты неутешительны. Кофеин усиливает возбуждение, но отнюдь не творчество. Возбуждение не позволяет рассеиваться вниманию, а значит, снижается вероятность того, что мы будем проводить те неожиданные взаимосвязи, которые отличают творческое мышление. Кроме того, кофеин отрицательно сказывается на качестве и количестве сна. Между тем исследования показывают, что люди, лишенные «быстрого сна», хуже справляются с творческими задачами.
Значит, дело не в кофе. Чем же объясняется продуктивность кофеен? Я прислушиваюсь. Гудение кофеварки эспрессо, гул импровизированной беседы, шелест листаемых газет… Когда мы представляем себе идеальные места для размышления, перед мысленным взором чаще возникают места тихие: сказываются книги вроде «Жизни в лесу» Торо, которыми нас настойчиво потчевали, да еще привычка библиотекарей шикать на посетителей. Хотя, как выясняется, тишина не всегда оптимальна.
Команда ученых под руководством Рави Мехты из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне установила: люди, на которых воздействует умеренный уровень шума (70 децибел), лучше справляются с заданиями на творческое мышление, чем люди, действующие в условиях более высокого уровня шума или полной тишины. По мнению Мехты, умеренный шум позволяет нам входить в «состояние рассеянной, разбросанной сфокусированности». Это идеальное состояние для творческих прорывов.
В венских кофейнях у завсегдатаев есть свой любимый столик, Stammtisch. Я не знаю, какой Stammtisch у Дардис Макнами, а потому слегка теряюсь. Вот в чем незадача: я-то ищу американку, а Дардис давно оставила американские повадки. Она стала венкой. Ничего удивительного, что я не могу ее найти.
Дардис Макнами родом из Нью-Йорка, как и Юджин Мартинес, а в Вену приехала лет восемнадцать назад — и сразу влюбилась в город. Она выучила немецкий в том возрасте, когда мозг якобы уже не в состоянии усваивать новый язык. А потому в этих краях она и чужая, и своя — эдакая венская «Брэди».
Наконец после нескольких неудачных попыток я замечаю ее. Ей немного за 60, и она держится со спокойной безмятежностью человека, которому нет нужды что-либо доказывать. Заказ для нас она делает на безукоризненном венском немецком. Венский выговор мягче и музыкальнее, чем стандартный немецкий, и австрийцы им очень гордятся. Я объясняю Дардис, что всегда считал австрийцев похожими на швейцарцев, только менее веселыми.
— Что вы! — говорит она. — Совсем наоборот. Австрийцы даже считают швейцарцев полными занудами.
По ее словам, Вена бесконечно интереснее любого швейцарского города уже хотя бы тем, что всегда была интернациональна, всегда служила перекрестком культур.
В XIX веке в Вену хлынули иммигранты из самых разных мест: из Галиции, Будапешта, Моравии, Богемии, Турции, Испании и России. К 1913 году население города более чем наполовину состояло из приезжих. Вена восприняла это этническое многообразие спокойно: «Но гений Вены — специфически музыкальный и всегда был таковым, он приводил к гармонии все народы, все языковые контрасты» (Цвейг). Вена Фрейда была ничуть не менее музыкальна, чем Вена Моцарта, а может, и более музыкальна — в том, как примиряла не только мелодии, но и идеи.
Этническое многообразие может дать толчок творчеству. Дин Симонтон показал, как это происходит на национальном уровне, на примере Японии. А как насчет малых групп — тех, что собираются в конференц-залах и кофейнях?
Психологи из Университета Айовы поставили любопытный эксперимент. Они разделили 135 студентов на две группы. В одной группе были только англоамериканцы, в другой — люди разношерстные по этническому составу. Всем дали задание ответить на «проблему туриста» — а именно за 15 минут подыскать как можно больше причин, по которым иностранным туристам хорошо было бы посетить Соединенные Штаты.
Этнически разнородная группа выдала значительно более творческие и «значительно более реалистичные» основания, чем группа этнически однородная. Психолог Ким Сойер говорит: «Коллективный гений возникает лишь тогда, когда мозги членов команды устроены по-разному».
Впрочем, ученые выявили и обратную сторону этнической пестроты. У этой группы не только результаты были лучше, но и «негативных аффективных реакций» (плохих флюидов) оказалось больше. Иными словами, испытуемые из разношерстных групп чувствовали себя менее уютно, но придумали лучшие идеи.
Так было и в венских кофейнях. Кофейни создавали атмосферу не только благоприятную, но и весьма критическую (в лучшем смысле слова). Цвейг вспоминает:
«Мы критиковали друг друга с такой строгостью, знанием дела и основательностью, как ни один из официальных литературных столпов наших крупных ежедневных изданий, разбирая классические шедевры».
Мало напоминает уютный и безопасный уголок. Впрочем, гениальность в других местах и не возникает.
Вена была многонациональной, но общались люди на немецком. Это немаловажно: как я выяснил в Китае, язык не только отражает мысль, но и формирует ее. Китайский язык с его тысячами неизменных иероглифов не способствует игре слов. С немецким же языком, как сообщает Дардис (тут нам приносят кофе), все обстоит иначе.
— Немцев обвиняют в том, что они лишены творческой жилки. А вы посмотрите, какой гибкий у них язык! Англоговорящим этого не понять. Немцы же постоянно выдумывают новые слова. Их язык словно создан для изобретения слов.
Язык помогает ответить на вопрос, который мучил меня давно: почему столь велико число немецкоязычных философов? Целая плеяда имен — от Шопенгауэра до Ницше, от Канта до Гете. Я всегда относил это на счет унылых зим и задумчивого характера. Что ж, соглашается Дардис, не без этого. Однако во многом дело в самом немецком языке. Он способствует философской мысли. К примеру, в немецком можно включать в предложение многочисленные определения и уточнения, не делая его громоздким (как случилось бы в английском). Кроме того, продолжает Дардис, «в английском мы мыслим в категориях действия. Действие находится в центре внимания. «Я пошел. Я сделал. Я пришел. Я увидел. Я победил». В немецком языке часто возникает ситуация, когда дело подается более тонким и косвенным образом. К примеру, по-английски мы скажем: «I am cold» («Я испытываю холод»). Немцы выразятся иначе: «Mir ist kalt» («Мне холодно»)».
— Очень уж тонкая разница.
— Тонкая, но существенная. Ситуация подается не как ваше действие. Ваша роль здесь пассивна, а активна роль холода.
— Ладно, пусть. А при чем тут творческая мысль и философия?
— Действие отступает на второй план. Важнее идея. Я бы и не придала этому значения, если бы не знала другой язык, где в аналогичном случае акценты расставлены иначе.
Место играет роль даже в предложении…
Наш разговор с Дардис продолжается несколько часов. У нее нет ничего срочного. Я осторожно спрашиваю: как же, мол, дела, бизнес?
— В Австрии и Вене дело — это никогда не бизнес.
— А что считают делом?
— Жизнь. Жизнь — это и есть дело в Вене.
По ее словам, Вене присущ «тонкий гедонизм». В пятницу после двух часов дня никто уже не работает.
— Можно знать венцев годами — так обстоит дело и по сей день — и понятия не иметь, чем они зарабатывают на хлеб.
— Такие вещи не спрашивают?
— Спросить можно. Но вообще об этом не говорят. Говорят о том, куда ездили на выходные. Говорят о том, что видели в театре, на какой фильм сходили, какую книгу прочитали, какую лекцию слышали, какой ресторан посетили. Говорят, как разговариваем мы с вами. И только про очень, очень близких друзей вы знаете, чем они зарабатывают.
Та же социальная динамика имела место в Вене начала ХХ века.
Дардис рассказывает историю, которая за многие годы стала легендой здешних кофеен. Однажды в 1905 году дипломат сообщает гостям, собравшимся на обед, что в России будет революция. Один из гостей выражает скептицизм. «Но кто же устроит эту революцию? Герр Брон-штейн из кафе «Централь»?» Раздается всеобщий смех. А вскоре Лев Бронштейн, взъерошенный завсегдатай кафе «Централь» и любитель шахмат, возьмет себе псевдоним. Какой псевдоним? Троцкий. И действительно сделает революцию в России. Никто, надо полагать, не спрашивал у него, чем он зарабатывает…
Наверное, Дардис рассказывала эту историю уже раз сто, но поныне находит ее интересной. Уж очень многое она говорит о Вене и о том, как брожение и гений были сокрыты под «пеной вальсов и взбитых сливок» (по выражению одного историка). Как и в Эдинбурге, я получаю напоминание о том, что каждый город имеет два лица: видимое и (доселе) невидимое.
Мы с Дардис прощаемся, и я с неохотой покидаю кафе Sperl. Венские кофейни оказывают такое воздействие на многих людей: попав в них, уходить не хочется. А в те времена люди и не уходили. Вели дела прямо в кофейне, иногда даже договаривались, что в кофейню им будут доставлять почту. Гуго фон Гофмансталь, еще один завсегдатай кафе «Централь», однажды сказал: «Нынче в моде две вещи — исследовать жизнь и бежать от нее». В кофейне это можно совмещать, и всего за какие-то несколько шиллингов. Гений чистой воды!
*Пер. Д.В.Сильвестрова. Цит. по изд.: Хейзинга Й. Homo ludens. Человек играющий. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. — Прим. пер.
Издательство
«Альпина Паблишер», 2016, Москва, пер. Г. Ястребова