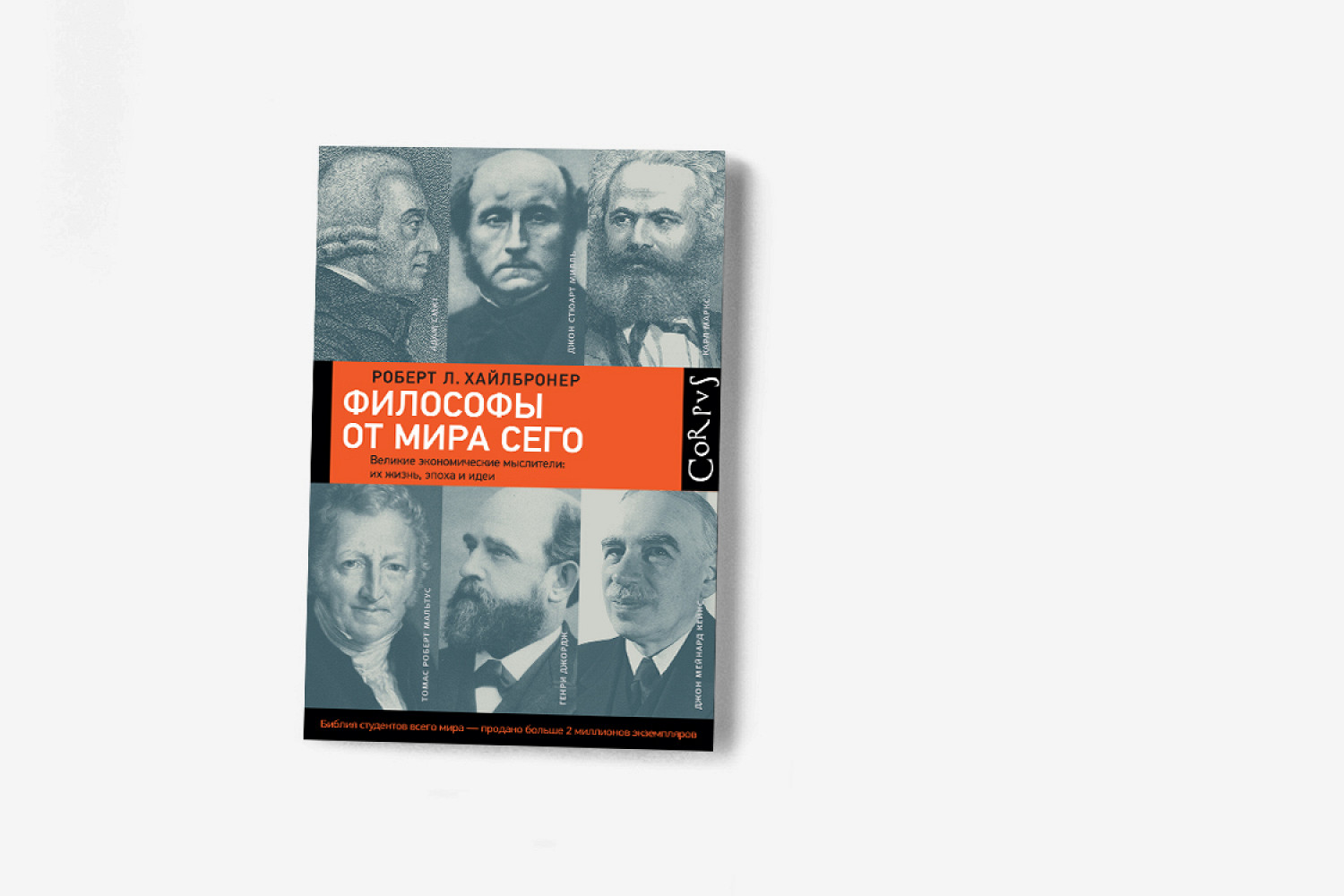«Манифест…» открывался поистине зловещими строками: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские».
В том, что призрак существовал, не могло быть сомнений: 1848-й был ужасным годом для старого порядка на континенте. Воздух был буквально пропитан революционными настроениями, а земля начинала трястись под ногами огромных масс людей. В какой-то момент — очень ненадолго — показалось, что режим может рухнуть. Во Франции дородный Луи Филипп боролся с кризисом до тех пор, пока не был вынужден отречься и искать убежища на своей вилле в Суррее. Парижские рабочие восстали, и очень скоро над городской ратушей реял красный флаг. В Бельгии перепуганный монарх сам заговорил об отречении. В Берлине выросли баррикады и на улицах был слышен свист пуль. В Италии толпы крушили все на своем пути; в Праге и Вене лидеры восстаний брали пример с Парижа, и города оказывались под их контролем.
«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения, — провозглашал «Манифест…». — Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».
Правящие классы и правда дрожали — и видели коммунистическую угрозу повсюду. Нельзя сказать, что их страхи были беспочвенны. Во французских плавильнях рабочие распевали песни протеста под аккомпанемент ударов своих кувалд. Объезжавший фабрики немецкий поэт-романтик Генрих Гейне заметил, что «воистину люди нашего круга не в состоянии прочувствовать дьявольских ноток, коими полны эти песни».
Сколько бы энергии ни содержалось на страницах «Манифеста…», дьявольские нотки не были призывом к коммунистической революции — они были рождены отчаянием и болью. На деле всю Европу душила реакция, на фоне которой ситуация в Англии казалась идиллической. Джон Стюарт Милль писал, что у французского правительства «нет надежд на улучшение… оно движимо лишь самыми отвратительными и эгоистичными мотивами». Франция не была уникальной страной в этом смысле. Что касается Германии — на дворе было четвертое десятилетие XIX века, а Пруссия до сих пор не могла похвастаться наличием парламента, свободы слова или свободы собраний. В стране не было независимой прессы и суда присяжных, не говоря уже о терпимости по отношению к взглядам, хотя бы немного расходившимся с замшелыми представлениями об идущей от Бога императорской власти. Италия была неряшливо скроена из застрявших в прошлом княжеств. Историк де Токвиль описывал николаевскую Россию как «оплот деспотизма в Европе» (несмотря на визит царя в оуэновский Нью-Ланарк).
Будь это отчаяние собрано в кулак и направлено в нужную сторону, дьявольские нотки могли стать по-настоящему революционными. На деле же восстания были беспорядочными, плохо организованными и бесцельными; стоило одержать первые победы, как вставал вопрос о дальнейших действиях, и тут старый режим не мешкая возвращался на свое место. Революционный запал спадал, а где-то и просто был уничтожен. Ценой десяти тысяч жизней национальная гвардия разогнала парижские толпы, во главе нации встал Луи Наполеон, а Вторая республика уступила место Второй империи. Народ Бельгии решил, что лучше уж предложить королю остаться; тот с удовольствием принял предложение, отменив свободу собраний. Артиллерийские обстрелы выбили австро-венгерских восставших из их укрытий, а немецкая конституционная ассамблея, до этого бойко обсуждавшая вопросы республиканского правления, сначала разделилась на враждующие фракции, а затем и вовсе позорно предложила Фридриху Вильгельму IV Прусскому взять контроль над страной. Словно желая окончательно унизить своих сограждан, монарх объявил, что он не примет корону из рук каких-то оборванцев.
Революция завершилась. Жестокая и кровавая, она не привела к однозначному результату. На исторической сцене появились новые лица, но порядок вещей не изменился ни на йоту.
У маленькой группки лидеров рабочего класса, только что образовавших Союз коммунистов, не было поводов для отчаяния. Что верно, то верно, революция, с которой они связывали столько надежд, выдохлась, а рассыпанные по всему континенту радикальные движения подвергались все более тяжелым преследованиям. Но это было не столь важно. Согласно их пониманию истории восстания 1848 года были лишь репетициями грандиозного спектакля, а его премьерный показ уже не за горами, и в успехе сомневаться не приходится.
Союз только что отпечатал программу своих намерений, названную «Манифестом Коммунистической партии». Изобиловавший хлесткими фразами и остротами «Манифест…» был написан не только затем, чтобы распалить будущих революционеров или присоединиться к беспорядочному хору протестующих против нынешнего порядка. Его авторы предлагали нечто иное: философию истории, делавшую коммунистическую революцию не просто предпочтительным, но и неизбежным исходом. В отличие от утопистов, также желавших изменить общество в соответствии со своими взглядами, коммунисты не рассчитывали на сострадание людей или склонность последних к строительству воздушных замков. Вместо этого они предлагали тем связать свои судьбы со звездой, а затем лишь следить, как эта звезда неумолимо движется по небу. Прошли времена противостояний, в ходе которых победитель выявлялся на основании моральных качеств или особенно сильной ненависти к существующему порядку. Взору читателя представал хладнокровный анализ того, какая сторона на самом деле победит, ну а поскольку этой стороной был пролетариат, его лидерам оставалось лишь немного подождать. Так или иначе, они не могли проиграть.
Хотя «Манифест…» изначально был программой на будущее, реальное развитие событий удивило бы и его создателей. Они были готовы ждать — но не семьдесят лет. Уже тогда они пристально всматривались в карту Европы, пытаясь определить возможный очаг революции. Им даже в голову не приходило обратить свое внимание на Россию.
Как всем прекрасно известно, «Манифест…» был детищем злого гения — Карла Маркса. Если быть точнее, этот теперь знаменитый текст родился в результате сотрудничества Маркса с потрясающим компаньоном, соотечественником, помощником и коллегой — Фридрихом Энгельсом.
Это были интересные и — безо всяких сомнений — очень значительные люди. К сожалению, довольно скоро они перестали быть просто людьми и превратились в фигуры. По меньшей мере до окончательного провала социалистического эксперимента миллионы людей воспринимали Маркса как духовного лидера калибра Христа и пророка Мухаммеда, а Энгельсу, таким образом, отводилась роль своего рода святого Павла или святого Иоанна. Сотрудники московского Института Маркса — Энгельса склонялись над их работами с тем благоговением, что высмеивалось в экспозициях находившихся неподалеку музеев атеизма. Возведенные в ранг святых в сталинской России и — в меньшей степени — в маоистском Китае, всему западному миру они казались дьявольским отродьем.

И то и другое несправедливо, потому как эти люди не были ни ангелами, ни демонами. Да и работам их далеко до Священного Писания, хотя и проклятий они не заслужили. Они относятся к великой череде экономических трудов, которым удалось упростить, осветить и прояснить нам устройство мира, и, как и все книги с этой полки, Марксовы не лишены своих недостатков. Разумеется, для мира интересен был прежде всего Маркс-революционер. Но даже в его отсутствие обязательно нашлись бы другие социалисты и провозвестники грядущего общества. Истинный вклад Маркса и Энгельса, не потерявший своего значения и сейчас, состоит отнюдь не в их не слишком успешной революционной деятельности. Политическая экономия Маркса — вот что на самом деле нужно понять и принять капитализму. Именно пророчество его неизбежной гибели стало самым важным следом, оставленным Марксом в истории нашего мира. Именно эта идея стала фундаментом для огромного здания коммунизма, и именно ее недостатки в конечном счете привели к его разрушению.
Но давайте познакомимся с этими людьми поближе. Внешне они были почти полной противоположностью друг другу. Маркс выглядел как революционер. За глубоко посаженные, часто моргающие глаза и темную кожу дети прозвали его Мавром. Маркс мог напугать кого угодно: коренастый, плотно сбитый, с закрывающей половину лица бородой. Он не был аккуратистом; по всему дому валялись груды бумаг, внутри в клубах разъедавшего глаза табачного дыма, закутанный в грязные одежды, восседал сам Маркс. Энгельс же, напротив, вполне мог сойти за представителя люто ненавидимой им буржуазии. Высокий блондин с фигурой, выдававшей в нем любителя фехтования, он с удовольствием охотился с собаками, а однажды даже переплыл реку Везер четыре раза подряд.
Они различались не только внешне; трудно найти и два менее схожих характера. Веселый и наблюдательный Энгельс обладал быстрым и гибким умом; говорят, он худо-бедно мог изъясниться на двадцати языках. Он отнюдь не гнушался маленьких радостей жизни вроде хорошего вина. Интересно, что, несмотря на свой длительный роман с пролетариатом, он довольно долго (и безуспешно) пытался доказать, что его вполне скромного происхождения возлюбленная Мэри Бёрнс (а после смерти Мэри — ее сестра Лиззи) на самом деле является родственницей шотландского поэта Роберта Бёрнса.
Марксу же легкости явно недоставало. Он был идеальным немецким ученым — неторопливым, внимательным к деталям — и неисправимым, до болезненности, перфекционистом. Энгельсу ничего не стоило написать трактат, Маркс же корпел над своими трудами долгие годы. В то время как Энгельса ставил в тупик лишь арабский язык с его четырьмя тысячами глагольных корней, Маркс и после двадцати лет практики разговаривал по-английски с тяжелым тевтонским акцентом. Его очень просто представить в тот момент, когда он испытывал тяжелый «шчок» от тех или иных событий. Несмотря на эти особенности, интеллектуальное первенство принадлежало именно Марксу; у Энгельса была широта охвата, случались озарения, но в поисках истинной глубины надо обращаться к его старшему товарищу.
Их вторая встреча произошла в Париже в 1844-м, и эту дату можно смело считать началом их сотрудничества. Вообще говоря, Энгельс зашел к Марксу с просьбой, но они нашли столько тем для разговора, что их беседа растянулась на десять дней. Трудно назвать работу одного, которая не была бы так или иначе отредактирована другим или хотя бы обсуждена с другим, а их переписка занимает много томов.
Они пришли к встрече в Париже разными путями. Отец Энгельса был довольно ограниченным и набожным человеком, последователем идей Кальвина; он держал небольшое производство в Рейнланде. Стоило юному Фридриху проявить вкус к поэзии, как он тут же был послан в Бремен изучать экспортное дело, деля кров со священником, — по мнению Каспара Энгельса, не было лучших лекарств для романтической души, чем религия и деньги. Энгельс подошел к своим занятиям ответственно, но внутри у него уже бурлили революционные чувства, а его легкая натура никак не соответствовала строгим отцовским стандартам. Когда он по долгу службы отправлялся в доки, его внимание привлекали не только каюты первого класса «из красного дерева с золотыми вставками», но и «бедняки, живущие в той же тесноте, что и булыжники на мостовой». Он погрузился в чтение тогдашней радикальной литературы и к двадцати двум годам обратился в коммунизм — тогда это слово не имело четкого определения; пожалуй, было известно, что коммунисты отвергают идею частной собственности как фундамента экономической организации общества.
Затем он отправился в Манчестер, чтобы поработать на отцовском текстильном предприятии. Манчестер, как и бременские суда, казался Энгельсу лишь фасадом. Нарядные улицы изобиловали магазинами, а пригороды окружали центр кольцом прекрасных вилл. Но за всем этим скрывался другой Манчестер. Его было почти незаметно за первым, так что владельцы заводов и фабрик могли даже не подозревать о его существовании. Обитавшие в грязи другого Манчестера люди от отчаяния обращались к джину и религии, и только настойка опия помогала им и их детям забыть об окружающем мире, где не было надежды, но лишь одна жестокость. Энгельс уже видел нечто подобное в фабричных городках своей малой родины, но на этот раз он изучил весь Манчестер — до последней лачуги и спавшего в ней пьяницы. Впечатления Энгельса довольно скоро перекочевали на страницы «Положения рабочего класса в Англии в 1844 году», самого сурового приговора, когда-либо вынесенного миру промышленных трущоб. Однажды в разговоре с одним приятелем он завел речь об ужасных условиях жизни в этом месте и сказал, что никогда не видел «настолько плохо устроенного города». Молча выслушав его, собеседник отвечал: «И все же здесь делается уйма денег. Удачного дня, сэр».
Теперь он писал почти без остановки, строча трактаты, выставлявшие великих английских экономистов апологетами режима, пока наконец один из его трудов не привлек внимание молодого человека по имени Карл Маркс, редактора парижского философского журнала радикального толка.
В отличие от Энгельса Маркс происходил из либеральной, если не радикальной среды. Родившийся в 1818 году в немецком городе Трире Маркс был вторым сыном преуспевающей еврейской пары, вскоре принявшей христианство — чтобы Генрих Маркс встречал меньше преград в своей адвокатской практике. Он был весьма уважаемым человеком и даже дослужился до юстицрата (почетного звания, дававшегося лишь самым заслуженным юристам), но в юности был завсегдатаем запрещенных сходок и поднял немало тостов за республиканскую Германию. Именно он ввел в рацион своего юного сына Вольтера, Локка и Дидро.
Генрих Маркс надеялся, что сын будет изучать право. Но стоило Карлу попасть в Боннский, а затем и Берлинский университет, как он очутился в самом центре философских дискуссий, охвативших тогдашнее общество. Предложенная философом Гегелем система была поистине революционной, и консервативная немецкая академическая среда раскололась надвое. Согласно Гегелю в основе жизни лежит изменение. Каждая идея, каждая сила с необходимостью порождает собственную противоположность лишь затем, чтобы впоследствии слиться с ней в «единое» целое, и этот процесс бесконечен. Вся история, продолжал философ, по сути, лишь скопление таких конфликтующих и мирящихся идей и сил. Изменение — диалектическое изменение — является неотъемлемой частью нашего мира. Правила не касаются лишь Пруссии; ее правительство, по словам самого Гегеля, — это что-то вроде «истинного наместника Бога на земле».
Молодой студент воспринял это как вызов. Он присоединился к интеллектуальному кругу младогегельянцев, где обсуждались такие смелые темы, как атеизм и теоретический коммунизм в рамках Гегелевой диалектики, и решил стать философом. Это и случилось бы, не вмешайся представлявшее Бога государство. Бруно Бауэр — любимый профессор Маркса, собиравшийся поспособствовать его назначению в Боннский университет, — был уволен за конституционные и антирелигиозные идеи (неизвестно, что было страшнее), и юный доктор Маркс расстался с надеждой на академическую карьеру.
Он обратился к журналистике. Раньше он часто писал в «Рейнскую газету» — небольшое издание для либерально настроенных представителей среднего класса, теперь же ему предложили пост редактора. Маркс согласился. На этом посту он пробыл ровно пять месяцев. Уже тогда Маркс был радикалом, но радикализм его имел скорее философский, нежели политический характер. Зашедший по делам Энгельс, увлеченный коммунистическими идеями, не вызвал его одобрения; когда тот заявил, что Маркс является коммунистом, хозяин ответил весьма двусмысленно: «Я не знаю коммунизма, но можно ли так легко осуждать социальную философию, ставящую во главу угла защиту угнетенных?» Несмотря на все оговорки, его редакционные статьи раздражали власти. Однажды он категорически осудил закон, лишающий крестьян их почти вечного права на сбор хвороста, и удостоился выговора. В его статьях смело обсуждалась ситуация с жильем, и он получал предупреждения. Ну а когда Маркс дошел до того, что нелестно отозвался о российском императоре, «Рейнскую газету» закрыли.
Маркс как ни в чем не бывало отправился в Париж, чтобы возглавить очередной радикальный журнал, ненамного переживший немецкую газету. Впрочем, теперь его все больше увлекали вопросы экономики и политики. Неприкрытое преследование прусским правительством своих интересов, неизменное сопротивление немецкой буржуазии любой попытке улучшения условий жизни рабочего класса, почти карикатурные в своей реакционности настроения, владевшие богатыми и властями предержащими по всей Европе, — все это смешалось в его голове, чтобы впоследствии выстроиться в единую и новую философию истории. Стоило Энгельсу зайти в гости, как двое мужчин прониклись взаимным уважением и симпатией, а философия начала обретать форму.