— Расскажи, пожалуйста, о своей семье.
— Я потомок Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, которого можно не представлять: он стал первым европейцем, который покорил Тянь-Шань и получил право носить почетную приставку к фамилии. Другой мой предок, Карл Бланк, был знаменитым архитектором конца XVIII века, он построил множество церквей. Я недавно гуляла по Москве и впервые увидела на Рождественке церковь Николая Чудотворца в Звонарях, построенную по его проекту. Для меня было очень интересно увидеть вживую работу моего прапра… шесть раз прадедушки. А вообще, в моей семье было еще множество выдающихся личностей, пусть и менее известных, например поэтесса Анна Бунина, министр финансов Петр Барк.
— Кто из твоих родственников по материнской линии эмигрировал?
— Мой прадед, Николай Семенов-Тян-Шанский, — он уехал сразу после революции. Он был морским офицером и работал на яхте Николая II, был лично знаком с царем. В Англии он познакомился с будущей женой, Ниной. Ее отец, Петр Барк, был последним министром финансов Российской империи.
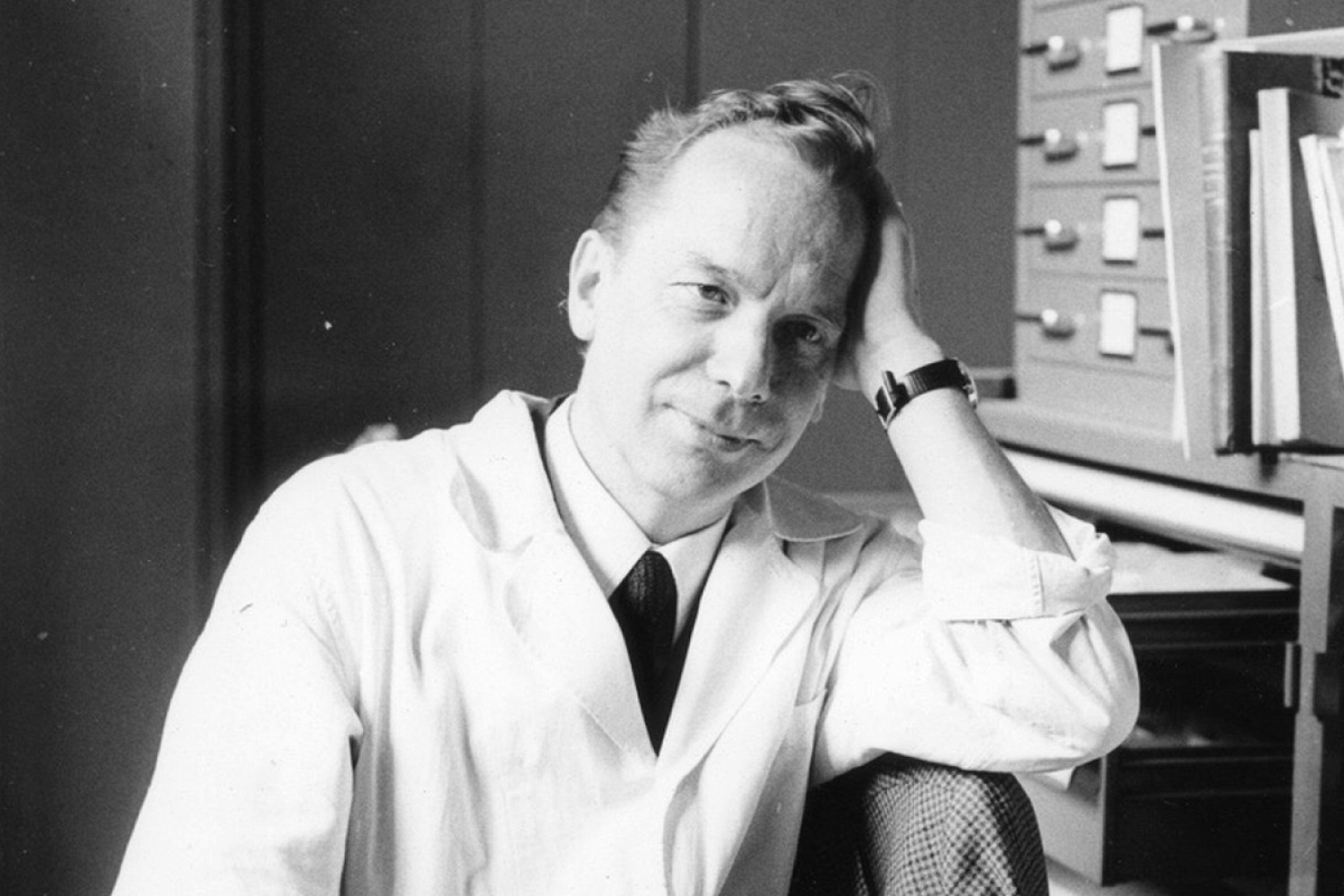
— А чем они занимались в эмиграции?
— Их судьбы интересно изменились. Нина Барк выросла в дворцовой обстановке, но в эмиграции семья начала заниматься сельским хозяйством: они с Николаем завели кур, свиней и начали производить самые качественные продукты в регионе. Они даже получали премии. И это, конечно, удивительно: дочь министра финансов занимается курами. Новый дом они обрели в городе Сен-Пьер-ле-Обань на юге Франции. Там они построили усадьбу, которую прозвали Петровкой на русский манер.
У Нины и Николая Семенова-Тян-Шанского родилось трое детей: Мария, которая стала врачом, София, которая работала в научном центре, и Петр — мой дедушка, который стал палеонтологом.
Чаще всего люди в эмиграции стараются заключать браки в своем кругу. С моим дедушкой получилось иначе. Он познакомился с моей бабушкой Изабель, тоже из дворянской семьи, но французской. Она работала в библиотеке в Сорбонне, в отделе русских книг, изучала русский язык и любила русскую культуру.
— Они поженились в Париже?
— У моей французской семьи есть имение в центре Франции, в Бургундии. Там они и поженились, прямо в деревне. Примечательно то, что они заключили брак в католической церкви, хотя мой дедушка был православным. Но бабушка — католичка, и ему пришлось пойти на компромисс ради семьи.
В этом браке в 1961 году родилась моя мама, она выросла под Парижем. В ее семье мало говорили по-русски, потому что бабушка была француженкой, но в школе она учила русский как иностранный. Моя мама постепенно узнавала Россию, но только по книгам.

Сначала она получила высшее образование в области истории искусств в школе Лувра и дальше в области права в Сорбонне. Только потом она начала заниматься советологией, как это тогда называлось, — изучением культуры и истории Советского Союза. И мало-помалу пришла к своей нынешней работе. Она преподает русскую цивилизацию в Нормандии, в городе Канн, где я выросла.
— Твоя мама занималась политологией и изучала русскую культуру. Расскажи про ее первый визит в Советский Союз.
— Он случился в 1977 году, ей было 16 лет. Мама мне часто рассказывала, что для нее эта поездка была просто откровением. Она уже из поезда видела, как пейзажи менялись. Как только мама пересекла границу, она почувствовала себя в России — не в Советском Союзе, а именно в России. И ощутила, что страна намного больше, намного шире.
— Как ее отношения с Россией строились дальше?
— После поездки в 1977 году мама смогла вернуться в Россию надолго уже в девяностых годах. Она стала писать книгу, которая называется «Свидетели о свете». В ней она рассказывала о религиозной деятельности священников в сложных условиях Советского Союза.
Какое‑то время мама преподавала в университете французский язык, параллельно писала диссертацию по искусствоведению. В итоге она провела в России много лет, несколько раз возвращалась сюда с разными проектами.

— Как в вашей семье сохранялась культурная и религиозная традиция, историческая память?
— Конечно, в эмигрантской жизни трудно сохранить культуру прежней страны, потому что дети посещают местную школу. Они начинают говорить на другом языке. В нашем случае круг общения создался почти полностью французский. И трудно, конечно, сохранить и язык, и память, и чувства.
В детстве у нас была атмосфера, которая была в каждом русском доме. Я не говорю даже про нашу домашнюю обстановку: у нас все шкафы набиты гжелью и хохломой. Но я говорю также о книгах, которые были на моих полках. Папа каждый год ездил в Россию и приезжал с чемоданом, набитым книгами, фильмами, конфетами «Мишка косолапый», шоколадом «Аленка». Для меня это был праздник. В отличие, наверное, от русских детей, для которых это обычная, повседневная жизнь.
— А что тебе больше всего запомнилось из первой поездки в Россию?
— Мое первое путешествие в Россию было в детстве, мы ездили к бабушке в гости. Мне показывали самые лучшие места для детей: Театр Дурова, цирк — это был всегда настоящий праздник, каникулы, мороженое. А еще я тогда два месяца ходила в православную школу в Свиблово.

— Получается, ты прожила какое‑то время в России в детстве? Расскажи про этот опыт.
— Мы жили в квартирке на берегу Яузы. У меня прекрасные воспоминания о том времени. И мы целый месяц путешествовали по России, побывали в имении Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского в Петербурге, где он жил и работал.
— А ты воспринималась своими одноклассниками как русская или как француженка? Как это было?
— В русской школе самым интересным для меня, конечно, были не предметы, которые я с трудом, кстати, понимала, но общение с детьми. Я думаю, они меня воспринимали как француженку, которая неплохо говорит по-русски. Но с одноклассниками я подружилась. Я помню, что в школе меня как‑то спросили: «В чем различие для тебя между Россией и Францией?» Я ответила: «Тут дети более общительные». Действительно, мне показалось тогда, что мои московские одноклассники не видели разницы — француз, русский, свой, не свой.
— А вот, в свою очередь, во Франции как ты воспринималась одноклассниками? Там говорили о том, что ты русская, например?
— Во французской школе была немного обратная ситуация. Причем я себя чувствую все-таки более француженкой, ведь я там родилась. Но для других я всегда человек с каким‑то экзотическим происхождением. Помню, когда учительница говорила хоть что‑то про Россию, сразу весь класс поворачивался и смотрел на меня, а я немного краснела.

Но все, конечно, с уважением относились к моему происхождению. Один раз незнакомая девочка через двор прибежала ко мне и спросила: «А правда, что ты русская?» И мы так познакомились. Еще у нас в классе был русский мальчик, он был для меня как опора. Мы с ним часто, чтобы подразнить других, говорили по-русски. Даже иногда какую‑то чепуху, просто чтобы нас не понимали.
— Вы ведь жили французской жизнью, общались только с французами? Вы как‑то контактировали с другими эмигрантскими семьями?
— Все-таки центр эмигрантской жизни — в Париже. А мы жили в провинции, в Нормандии. С эмигрантами я познакомилась, только когда приехала в Париж учиться. Мне было 18 лет, я пришла в церковь и там попала в эмигрантский круг. Я оказалась в молодежном дружеском хоре. Руководил этим хором Иван, который позже стал моим мужем.
— А как ты сама относишься к сохранению этой традиции — создавать семьи именно с эмигрантами из России? Это важно? Что это дает?
— Я не думаю, что сейчас есть особая традиция создавать семьи в кругу потомков эмигрантов. Просто на своем опыте я вижу, почему это происходит: из‑за моего воспитания на стыке двух культур я бы с большим трудом могла бы выйти замуж за француза. Да и, наверное, за русского. Потому что трудно понять человека, у которого нет огромной части твоего культурного опыта. И поэтому я очень рада, ведь я нашла человека, понимающего, что такое французская школа, французские люди, французская жизнь, но с фоном православной русской культуры. То есть с таким же воспитанием и опытом, как у меня.

— В чем ты видишь разницу между человеком, который родился и вырос в России, и русским потомком эмигрантов, который вырос во Франции?
— Есть такая идея, что в эмиграции сохранилась бывшая Россия. Я думаю, это по большей части миф, но в нем есть и доля правды: в эмиграции сохранилось то, чего больше нет в нынешней России. Например, я ценю, что православная церковь в эмиграции в силу обстоятельств всегда была бедной. Наши бедные церквушки держатся исключительно на людях, которые добросовестно отдают свое время, чтобы исповедовать, петь или убирать. Я очень удивилась, когда в России увидела, что певчим часто платят, а записки просят оплачивать по количеству имен. Впрочем, это, наверное, неизбежно, когда церковь — крупная организация.
— Это напоминает выражение «больше католик, чем сам покойный». Нет такого ощущения, что в эмигрантской среде люди чувствуют себя больше русскими, чем сами россияне?
— Мы всегда помним о том, что мы — русские во Франции. Создается такое впечатление, что мы гордимся своим происхождением. Мы о нем все время рассказываем. У нас дома все русское. Я думаю, что человек, который живет и вырос в России, на это меньше обращает внимания.
Отчасти эмиграция осталась хранилищем бывшей России. И это можно увидеть через язык: например, советский новояз никогда не проникал в речь эмигрантов, хотя, конечно, в язык попали англицизмы и прочие заимствования. Но в эмиграции действительно очень важно сохранять свою культуру, иначе все забывается.
— Что для тебя такое российская культура? В чем ее уникальность? Что ты выделяешь?
— С вопросами о русской культуре я очень боюсь впасть в клише. Про русскую душу, про щедрость, про духовность. Но придется об этом сказать, потому что я искренне так ощущаю.
Я часто замечала, что здесь люди более откровенны и быстрее погружаются в сложные разговоры. Не боятся говорить про личные чувства, о философии и метафизике. Во Франции, конечно, это тоже есть. Мне не нравится, когда все время сравнивают Россию и Европу, считая, что в Европе все плоско и материалистично. Я с этим не соглашусь. Просто, наверное, французам нужно больше времени, больше доверия, чтобы участвовать в таких личных беседах. Пожалуй, люди во Франции более закрытые, чем в России.

— Как российская и французская идентичности в тебе друг с другом уживаются, как ты это видишь? Они конфликтуют? Они друг друга дополняют?
— Совмещение двух культур — это всегда неоднозначно. Для меня французская и русская культура дополняют друг друга. Они, конечно, разные — но меня, конечно, они обе обогащают. Мне не кажется, что они противоречат друг другу так, чтобы я стала ощущать себя двуглавым орлом, который не знает, куда смотреть. Такого точно нет.
— Как ты себя определяешь — как русскую или как француженку?
— Национальная идентичность долго строится. Я обычно ощущала себя француженкой. Но во мне всегда была доля русского самосознания, и эта доля росла по мере того, как я лучше узнавала Россию. И теперь, когда я целый год прожила в стране благодаря учебе, я впервые в жизни больше почувствовала себя русской.
Почему я это говорю? Мне не хочется возвращаться во Францию по объективным причинам. Потому что здесь я нашла людей, с которыми делю… какое‑то понимание, что ли. Это не значит, что во Франции меня никто не понимает: у меня там прекрасные друзья-католики, с которыми мы ведем глубокие разговоры. Но, например, я еду в Москве в метро. И я не знаю почему, но мне кажется, что мы, незнакомые люди, очень хорошо понимаем друг друга. А может, я и ошибаюсь, и это не совсем так. Но для меня все изменилось, я здесь себя не чувствую чужой. Но и во Франции я себя никогда не чувствовала чужой, кстати.
— Ты решила приехать сюда учиться? Как это восприняли твои французские друзья? Удивились ли они?
— Я год училась по обмену — на филфаке МГУ. Когда я ехала в Россию, то прекрасно понимала, зачем мне это: чтобы лучше познакомиться со своей культурой и лучше познать себя. И все мои друзья понимали, что это важный этап в жизни человека.
Моя мама преподает русскую цивилизацию. И когда я была подростком, мне не хотелось повторять ее профессиональный опыт. Однако со временем я смогла оценить ее выбор и решила, что самое логичное для меня — начать учебу, связанную с Россией. Поэтому сейчас я изучаю русскую филологию во Франции — в Сорбонне и в Высшей нормальной школе. И мне очень нравится. Скорее всего, я буду преподавать русскую литературу во Франции.
— А ты рассматриваешь идею о полном переезде в Россию? Что может помешать этому выбору?
— Меня остановили поселиться в России несущественные вещи. Это никак не связано со страной. Но я подписала контракт на 10 лет, согласно которому я четыре года учусь и шесть лет должна проработать чиновником во Франции. Больше ничего не мешает мне остаться в России.
— Как ты считаешь, каков идеальный сценарий для России? В эмигрантском сообществе очень много разных взглядов на это, и люди представляют будущее России очень разнообразно — от монархии до республики. Какой, на твой взгляд, путь в принципе наиболее пригоден и наиболее адекватен?
— Я думаю, что России нужен свой, русский путь. Не полностью западный. Например, чтобы было выделено место для религии. Но я бы лично не хотела, чтобы Россия стала религиозной державой. Для меня важно, чтобы религия оказалась признанной частью русской идентичности, но без «государственного православия», этого бы мне точно не хотелось.
— А вот и ты, и мы все, в общем-то, так или иначе однажды произносим это словосочетание «особый русский путь».
— Для меня лично этот особый русский путь — это важная роль церкви. Мне кажется, в России всегда была такая потребность — людям нужен идеал. Строить что‑то уравновешенное, без особых амбиций — это невозможно представить для русских. Но создать страну, в которой будут особые ценности, связанные с церковью, мне кажется, было бы хорошо и правильно для России. Это, на мой взгляд, и есть русский путь — придерживаться своих ценностей. Необязательно при этом, чтобы все граждане были православными.
— А каким ты видишь будущее России? И какое будущее ты видишь здесь для себя?
— Сейчас, мне кажется, очень трудно думать о будущем страны, но я могу представлять свое будущее здесь. Оно меньше зависит от политики, от истории. Я думаю, что русская идентичность всегда остается ощутимой в России. И если так, то я всегда буду рада тут жить. И, например, преподавать французскую литературу, как я бы преподавала русскую литературу во Франции. Это такой вид профессиональной деятельности, которая связывает одну страну с другой.

— Несмотря на утраты, трагедии, травмы, которые были получены эмигрантами начала XX века, они сохранили любовь к стране. В частности, она выражается в том, что ты знаешь русский язык, знаешь историю своих предков гораздо лучше, чем многие в России. Как ты думаешь, что заставило или что позволило им эту любовь в себе сохранить?
— Наверное, в эмиграции этим людям было легче продолжать любить страну, чем тем, кто страдал от сталинских репрессий. Эмигранты, собственно, любили уже пропавшую страну.
— В какой‑то момент потомки белой эмиграции начали возвращаться в Россию. Это люди, которые родились во Франции, многие из них никогда не были в Советском Союзе. Они приехали сюда в начале перестройки и решили остаться. Потом была волна девяностых, нулевых и даже десятых. То есть на самом деле многие возвращаются. Как и чем ты это объясняешь для себя?
— Любить издалека — это напоминает Машеньку Набокова. Когда хочется любить образ Машеньки или любить какую‑то идеализированную Россию из воспоминаний и воображения. Не делать усилия, чтобы принимать страну со всеми ее недостатками и активно что‑то менять в лучшую сторону. Поэтому я считаю, что довольно смело со стороны тех, кто возвратился в Россию, не испугаться разочарования.
Оказавшись в России, я понимаю, что раньше не очень представляла, что значит ощутить себя дома, мне как будто чего‑то не хватало. Наверное, я не очень представляла, как много для меня значит идентичность.
Здесь все кажется таким естественным, что хочется тут остаться жить. И, наверное, это чувство горит в тех людях, которые возвращаются в Россию, хотя они родились за рубежом. Просто почему‑то именно здесь чувствуешь себя дома.
