Александр Стесин работает врачом-онкологом в одной из больших больниц Нью-Йорка. Его книга о буднях американского врача «Нью-Йоркский обход», которую он писал на протяжении десяти лет, попала в финал премии «НОС». А сейчас в издательстве «Новое литературное обозрение» выходит «Африканская книга», куда вошли повести и эссе об Африке, заметки об африканской кухне и переводы африканских писателей.
— Когда‑то вы поступили в Университет Буффало на литературный факультет и учились у знаменитого поэта Роберта Крили — а теперь лечите людей от рака. Как это вышло?
— Дело в том, что в Америке ты не поступаешь прямо из школы в мединститут. Ты сначала заканчиваешь университет вместе со всеми, кто хочет получить гуманитарное образование, а потом уже поступаешь на медицинский. То есть это что‑то вроде аспирантуры. В университете тебе приходится сдать какое‑то количество обязательных предметов, скажем биологию, химию и физику, но в принципе, можно изучать то, что ты хочешь.
— Значит ли это, что вы с самого начала собирались стать врачом?
— У меня была такая мысль, хотя я еще не очень хорошо понимал, чем собираюсь заниматься. Я поступил в университет, потому что после школы надо было продолжать учиться. Уже поступив, обнаружил в Университете Буффало замечательную кафедру поэтики, где преподавали всякие знаменитости. А я с детских лет кропал стихи, и в школьном возрасте, как и все, мнил себя великим поэтом. Но за то время, что я учился в Буффало, я понял, что не хочу профессионально заниматься писательством.
— Почему?
— Попробую объяснить. Все мои сокурсники были одержимы идеей написать Великий американский роман или Великую поэму, и это желание культивировалось. С одной стороны, я тоже был заражен этой идеей, а с другой, мне это казалось смешным, потому что шло вразрез с окружающей действительностью. В этом искусственном литературоцентричном мирке вся жизнь состояла из разговоров о книжках и литературных амбиций. Поскольку мой реальный иммигрантский опыт был еще свеж, мне это все показалось несерьезным. Мне захотелось заниматься чем‑то более полезным.
— Сказалось влияние родителей?
— Пожалуй, в неявной форме. Они мне ничего не запрещали, всегда только поддерживали. Папа у меня математик, а мама экономист. Вообще, математиков у меня в роду много, но для этой науки я мозгами не вышел. По-видимому, у меня самого была такая установка.
Литература всегда для меня была очень важна, но я никогда не видел себя в качестве профессионального литератора. Мои литературные способности казались мне очень скромными, и мне было страшно все поставить на эту карту.
— И когда вы приняли решение стать врачом?
— После университета я поехал во Францию и год проучился в Сорбонне на литературном факультете. При этом в какой‑то момент у меня закончились деньги, и я устроился лаборантом в лабораторию для медицинских исследований. Где‑то в закоулках моего мозга медицина всегда присутствовала: у меня бабушка была врачом-педиатром. Уже из Парижа я подавал документы на медицинский. В итоге медицина очень сильно повлияла на то, что я пишу, хотя я этого не предполагал.
— Как получилось, что, приехав в Америку в одиннадцать лет, вы не забыли родной язык? Родители постарались?
— Наоборот, родители всячески мне пытались внушить, что русский надо забыть! Я утрирую, конечно. Но, во всяком случае, им казалось, что гораздо важнее в совершенстве овладеть английским. Например, я с мамой уже много лет общаюсь исключительно по-английски. Так ей хочется. Это можно понять: родители приехали в Америку в сорок лет, и для них вопрос возможности вписаться в новую языковую среду всегда стоял остро, все силы были брошены на это. Но, разумеется, для человека, приехавшего ребенком, этот вопрос не стоит: по-английски я говорю, как американец, без акцента, но не потому что я очень старался, а просто потому что приехал до окончания пубертата.
Но, с другой стороны, меня всегда пугала возможность того, что я забуду свою прежнюю жизнь. Я видел вокруг себя людей, которые приехали в более позднем возрасте, например в 14–15 лет, и почти не говорили по-русски. Весь ранний опыт у них как будто ластиком стерли. И вот это мне почему‑то показалось очень страшным: я понял, что не хочу быть человеком из ниоткуда. Поэтому я много читал по-русски, читал много стихов, и в какой‑то момент начал писать сам. Однажды, набравшись смелости, отправил свои стихи Иосифу Бродскому.
— Ничего себе! Вы с ним были знакомы?
— Конечно, нет. Как говорится, наглость — второе счастье. Это было в 1995-м, и Бродский тогда преподавал в колледже Маунт-Холиок. Я послал ему свои юношеские опыты на адрес колледжа, и он по доброте душевной откликнулся. Мы даже вкратце пообщались по телефону. Он мне сказал что‑то такое напутственное и представил своей приятельнице, поэту Марине Темкиной. А Марина уже потом ввела меня в круг русскоязычной литературной тусовки. Через год я поступил в Университет Буффало, где обнаружил библиотеку с чудесной коллекцией неподцензурной поэзии поздней советской эпохи. Все это абсолютно перевернуло мой мир и укрепило меня в желании писать по-русски.
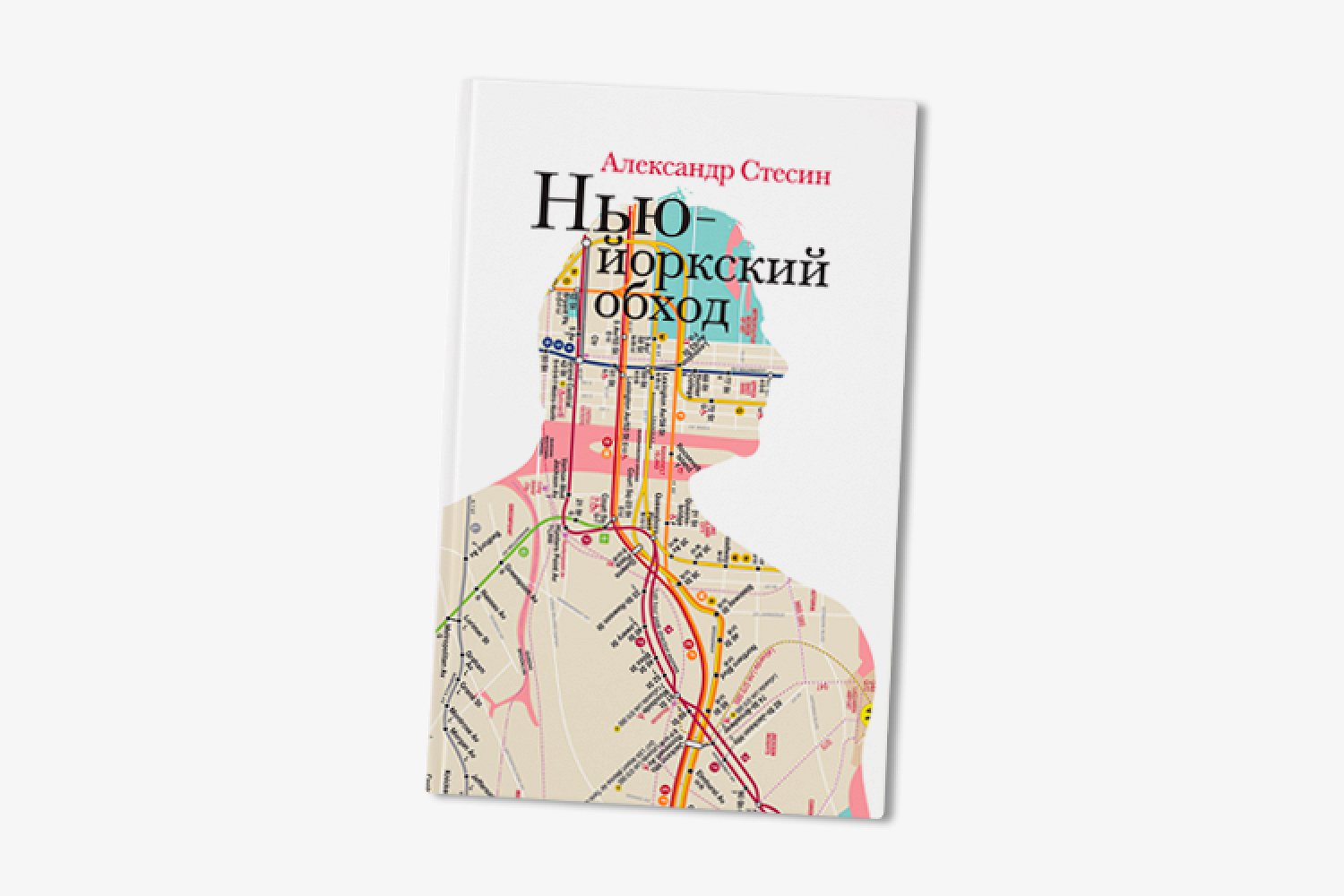
— Кроме Бродского, кто были ваши наставники?
— Мне очень повезло на учителей. Когда тебе двадцать лет, важно, чтобы тебе указывали на то, что у тебя не получается. Одно время я переписывался с покойным Львом Лосевым, который по сей день остается одним из моих любимых поэтов. Он писал мне подробные, достаточно безжалостные разборы моих стихов, что было необыкновенно ценно. То же самое пару раз делал прекрасный Владимир Гандельсман.
Чуть позже я познакомился с людьми, с которыми дружу уже полжизни, и чьи стихи всю жизнь помню наизусть. Это поэты «Московского времени»: Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев и Сергей Гандлевский. Пожалуй, это мои главные наставники. Они, можно сказать, меня вырастили. Они и Крили. Я им тоже присылал какие‑то свои стихи, они их комментировали. Для меня это было невероятно важно — услышать их оценку. Это меня очень поддерживало.
— Как появились ваши первые публикации?
— Я посылал свои опусы в американские русскоязычные издания. Был такой альманах «Встречи» в Филадельфии, «Новый журнал» в Нью-Йорке — так случились мои первые публикации. В России меня впервые опубликовали в «Звезде» в 2002 или 2003 году. Потом Бахыт помог мне с первой публикацией в «Новом мире». Дальше все стало легче.
— А как получилось, что вы перестали писать стихи и начали писать прозу?
— Мне кажется, это вопрос возраста. В двадцать лет все пишут стихи, потому что для прозы все-таки нужен жизненный опыт. Кроме того, силлабо-тоническая форма, к которой я всегда тяготел, за триста лет своего существования во многом себя изжила. Это было понятно и в то время, когда я начинал свои стихотворные опыты. Но тогда мне казалось, что мое личное пространство во вселенной традиционного стиха еще не вытоптано. Мне нравился поиск новых, незаезженных рифм, например. А теперь те вещи, которые мне хочется сформулировать и проговорить, не вмещаются ни в ямб, ни в анапест. Кстати, много лет назад Гандлевский, реагируя на какое‑то мое стихотворение, пошутил: «Если ты когда‑нибудь станешь писать романы, помни, что я был первым, кто это предрек». Он и сам уже наверняка этого не помнит, а я помню.
— Вся ваша проза — это то, что по-английски называется autofiction, то есть куски вашей собственной биографии с добавлением вымысла. Почему вы работаете только в этом жанре?
— Наверное, как раз потому, что я начал со стихов. Я вообще не собирался писать прозу, но потом стихи стали мне малы. У меня появились впечатления, которые хотелось очень подробно зафиксировать, причем не иносказательно, а буквально.
Первым моим опытом в прозе стал тревелог о поездке на Приполярный Урал. Я присоединился к компании знакомых этнографов, занимающихся изучением генеалогии пелымских манси. И вот мы поехали в тайгу и провели какое‑то время в деревне среди людей, практически не имевших контакта с цивилизацией. В общем, это была очень яркая поездка, но писать про нее поэму было бы совсем несуразно. Потом случилась моя стажировка в Южном Бронксе. Это был мой первый опыт клинической практики и вообще очень важный период в моей жизни. Записи о нем стали первой частью «Нью-Йоркского обхода».
— Когда вы писали эту книгу, что именно вы перепридумывали и почему?
— Во-первых, я менял имена. Я не хотел никого обидеть — это соображение всегда для меня важно, и я стараюсь делать так, чтобы люди себя не узнали. Истории пациентов я никогда не пересказываю, потому что это неэтично. Мне бы не хотелось, чтобы кто‑то из моих пациентов прочел свою историю в книжке, даже если с юридической точки зрения я имею на это право. В «Африканской книге» есть реальные персонажи, которые проходят под собственными именами, — например, известные африканские писатели. Ну там я просто стараюсь не писать ничего обидного. Я вообще считаю, что никакая литература не стоит того, чтобы пострадали люди.

— Будет ли перевод «Нью-Йоркского обхода» на английский? И если да, будете ли вы в нем участвовать?
— Если будет, я бы хотел принять в нем активное участие. Во-первых, потому что мне виднее, как бы я хотел, чтобы это звучало интонационно. А во-вторых, потому что в Америке людей гораздо легче обидеть. Из соображений политеса я бы многое в книге поменял. Сейчас в англоязычной литературе есть боязнь культурной апроприации: если ты не кореец, то не дай бог писать о корейцах, и так далее. Ведь когда я описываю людей другой культуры, я, возможно, сгущаю краски, чего‑то не понимаю, что‑то мне кажется забавным, а они могут обидеться. А если я все подотру и сделаю стерильным, то какой тогда вообще смысл об этом писать?
— Вы много ездили в Африку и изучали африканские языки. И в «Нью-Йоркском обходе» пишете о том, как с удовольствием погружаетесь в чужие культуры. Почему вам это так интересно? Это тоже следствие того, что в одиннадцать лет вам пришлось переехать в чужую страну?
— По-видимому, это обратная сторона той же медали. Когда я приехал в Америку и пошел в седьмой класс, в школе не очень понимали, что со мной делать. В больших городах, где много иммигрантов, всегда есть программы обучения английскому для иностранцев на их родном языке. Но в школе, куда отправили меня, русских не было. Посадить меня изучать английский на испанском было бы странно, и мне пришлось учить английский самостоятельно. Кроме того, нужно было выбрать еще один иностранный язык, и я выбрал французский. Но учить его вместе со всеми я не мог, так как обучение происходило на английском. Получилось, что я сам учил два языка. А потом я подумал: а почему я должен ограничиваться изучением одного языка? И стал учить другие.
— Вам сейчас сорок один год. Кто ваши близкие друзья?
— В школе у меня всегда были близкие друзья-американцы. Но проблема в том, что здесь люди гораздо мобильней, чаще переезжают, и у американцев в меньшей степени, чем у русских, принято поддерживать дружбу после того, как вас жизнь раскидала. Поэтому в разные периоды и в разных местах у меня были близкие друзья, с которыми я постепенно перестал общаться. Это здесь в порядке вещей, хотя очень жаль. А русские друзья всегда остаются, никуда не деваются, поэтому большинство моих друзей все-таки русские. Есть еще какое‑то количество африканцев. Кроме того, так получилось, что там, где я живу сейчас, много людей из европейских стран: французов, немцев, итальянцев. Наши дети дружат, поэтому дружим и мы. Это позволяет мне поддерживать свой французский.
— В «Нью-Йоркском обходе» вы пишете о том, как ежедневно сталкиваетесь со страданиями и смертью, и ваш постоянный спутник — это неврастеническая тревога. Как вы с ней справляетесь?
— С трудом. Страхи всегда со мной, от них никуда не деться. Никто не обещал, что жизнь будет безоблачной. В какой‑то момент человек вступает в пору смертности, и это неизбежная часть жизни. Я пишу о своей тревоге, и это проговаривание — один из способов с ней справляться.
— Если возникает страх, что вы делаете?
— Ничего не делаю. Иду в спортзал или собираюсь и еду на работу. Страх — это в моем случае нормальный, привычный фон существования. Хорошо, когда есть что‑то помимо этого, когда ты проводишь время с детьми, с семьей. Хотя когда есть семья, возникают дополнительные страхи. У меня есть знакомые в Израиле, и у них совершенно другая реальность, окрашенная тем, что они все время живут на грани войны. Они смолоду впитывают ощущение, что каждый день может быть последним. При этом это страшно тусовочное место, молодежь там очень жизнерадостная. Они как‑то с этим живут, и мы тоже в какой‑то момент начинаем с этим жить. Забавно, но мне это помогло осознать себя писателем. Потому что когда ты полностью осознаешь, что ты смертен и вообще непонятно, сколько тебе времени отпущено, это раскрепощает. И уже можно сказать: «Ну хорошо, я писатель». В двадцать лет себе такого не скажешь.

