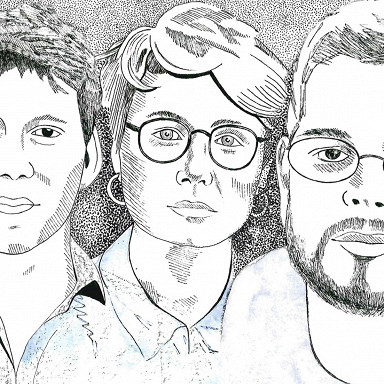Андрей Родионов о стихах, написанных в измененном состоянии сознания
***
В Петербурге в маленькой кафешке
Сколько мы не виделись с тех пор
Встретился я с другом и без спешки
Начался негромкий разговор
Говорили о былом, о думах
За окном сгущался невский мрак
Вдруг сказал он, я вот тут подумал
Сталин не такой уж был мудак
Были ведь враги, они ведь были
Были тут вредители везде
Их не так уж много посадили
Слишком уж раздуты цифры те
Тишина, стаканов перезвончик
Капля водки чистый бриллиант
Сашка Сашка ты же электронщик
Сашка Сашка ты же музыкант
Лепетал я глупо и ненужно
Он сидел спокоен, духом чист
В кабаке, похожем на психушку
Старый электронщик-сталинист
Долог путь домой у сталиниста
На метро, потом маршрутка два часа
По дороге сон ему приснился
Светлая такая полоса
По тайге глухой гуляет эхо
Нацепивший желтые очки
Там перед толпою бритых зеков
Он миксует разные звучки
Страшный ритм веселый электронный
Где полярной ночи темнота
Да торчат рученки из сугробов
И глазенки смотрят из‑под льда
Поэт, лауреат Григорьевской поэтической премии, сотрудничал с проектом «Елочные игрушки»
«Это было в другом городе, и я транслировал на героя мой собственный сон, в остальном все правда. Саша — музыкант, раньше мы работали вместе, но уже несколько лет прошло, как наши дорожки разошлись, а два года назад мы решили в Воронеже сыграть вместе. Он — музыка, я — слова. Поговорили, потом у меня было жуткое похмелье. Стихотворение написано в Красноярске, сразу после ночного перелета в измененном сознании где‑то в шесть утра я решил, что мне этот случай следует описать. Я его описал, поместил в сеть; когда Катя, жена, проснулась, я уже видел, что текст стал популярным. Поэтому я ей смело его показал, она сказала: «Ну конечно, стихотворение задевает чувства нашего друга, ну ладно». Как у Пушкина в первой главе «Евгения Онегина»: «противоречий очень много, но их исправить не хочу». А первые строчки — от Мандельштама: «жил Александр Герцович, еврейский музыкант». Вот эта вот строчка, ритм — «Сашка, Сашка, ты же музыкант» — она меня зацепила, и от нее все пошло.
Уже два года я практически ничего не пишу, с тех пор как закончил «Поэтический дневник» — эксперимент, в течение которого я писал по восьмистишию [в день] целый год. Это был такой ход конем, мне нужен был какой‑то вызов, причем вызов не дешевый, а серьезный: сможешь написать так, чтоб и тебе самому было интересно читать? К тому же я понял, что у публики есть противоречивое [желание] что‑то прочитать небольшое и дальше уже углубиться в чтение длительное. Поэтому я придумал такую форму — короткую, но которая подразумевала, что я буду вести читателя куда‑то еще, как в романах. Задача оказалась для меня невероятно сложной.
А потом, спустя год или, может быть, неделю, думаю: «А я-то в этот день-то ведь, ага!» И это для меня оказывается важным, так я и живу. А тут я поставил себе задачу реагировать именно на настоящее, сразу. В какой‑то момент я все равно срывался и писал про прошлое, но иногда получалось пересилить себя: я все-таки поймал именно момент того, что происходило со мной прямо сейчас, и это было удивительно, раньше такого со мной никогда не случалось.
После этого гребаного поэтического дневника, когда я каждый день садился с тетрадкой где‑то в уголок, я реально исписался — поставленная задача меня высосала. Уже прошло два года, но я до сих пор не сажусь писать стихи — я как‑то не вижу в этом смысла. Мне кажется, что больше смысла в придумывании чего‑то длительного во времени, какой‑то структуры с сюжетом от начала до конца. Либо я просто думаю: «Ну господи, ну какая фигня все то, что случилось со мной сегодня, не стоит описывать».
Могу ли я писать в любой ситуации и в любом состоянии? Это все равно что сказать, что ты можешь проснуться в час ночи и побежать разгружать вагоны. Да, могу, но просто в какую‑то ночь я разгружу, а в какую‑то сил не хватит. Поскольку я пишу стихотворные пьесы, то последние годы я был поставлен театром в такие условия, когда хочешь не хочешь, а надо писать. Я помню, как мы однажды ехали с Катей в Канск в атмосфере жуткой горячки, потому что мы сдавали пьесу, и режиссер постоянно присылал и досылал мне что‑то, что надо было доделать к спектаклю «Сван». За четыре часа, пока мы ехали от Красноярска, я написал пять текстов!
Текст про Сашку-электронщика — это совсем другое, не было плана. Он был написан ровно через полтора месяца после окончания «Поэтического дневника», и он один буквально из пары-тройки стихотворений, которые у меня получились с тех пор и которые я готов прочесть на публике.
Я не могу сказать, что предпочитаю работать по плану или предпочитаю работать внезапно, — я предпочитаю иметь эмоции, чувствовать и описывать свои чувства, а это бывает не каждый день. Не буду говорить возвышенных слов, хотя можно было бы и их употребить, но, если у тебя нет настоящих эмоций, ты либо их находишь с помощью каких‑то внешних стимуляторов, либо ты тупо проваливаешь работу, вот и все».
Алексей Цветков о стихах, которые нет смысла описывать
вконтакте
а помнишь пинкисевича илью
который теннис обожал настольный
и в сумерки последнюю игру
под соснами в забытый год застойный
у вас на даче был слепой чулан
с лопатами а может и не ваш но
я там с одной наташей ночевал
или с другой теперь уже неважно
или постой я путаю тебя
и конькобежку рыжую с ногами
движок сдает но будем жить терпя
тряхнем еще а доктора солгали
устроили на речке смотр невест
стрельцова кошку шпротами кормила
я ничего не сдвинул с прежних мест
пусть в голове останется как было
вздремнешь в такси но память как ожог
твой пинкисевич в пароксизме жажды
не плачь ведь мы не умерли дружок
ты разве рыжая была однажды
была и плечи девичьи белы
в саду с настольным теннисом на даче
а если кто‑то думает иначе
ты убеди что не было беды
что встал и навестил тебя в сети
беседовал как с лестничной соседкой
щелчок и мячик в паузе над сеткой
пластмассовый игрушечный свети
Поэт, лауреат премии Андрея Белого и Русской премии
«Я принципиально не комментирую свои стихи, потому что тогда не имеет смысла их писать. Не знаю, как другие люди, а я пишу стихи, а потом о них забываю, я не нянчусь с ними, не помню их, не перечитываю — стихотворение написано, и я его отпустил, меня больше интересует то, что я еще напишу. И я понятия не имею, что происходило со мной, когда я писал то или иное стихотворение. Я не могу анализировать этот процесс, как если бы я просто стоял рядом и смотрел. Если бы я мог что‑то еще сказать об этом, я бы включил это в текст.
Ничего на меня такое специальное не снисходит, просто приходит в голову мысль о чем‑то написать, и я сажусь за компьютер. Так же и тут: появилась идея написать о социальных сетях, замысел возникает раньше стихотворения. Конечно, эта тема производит впечатление, потому что мы живем в эпоху, когда люди встречаются в интернете через двадцать-тридцать лет в ситуации, в которой они бы никогда не встретились в другое время. Вот люди после того, как вообще, может быть, забыли отчасти друг о друге, сталкиваются в этом «ВКонтакте» и думают о чем‑то. Но я не надстраиваю из этого какой‑то лишний смысловой этаж: не то чтобы я перебирал какие‑то фотографии или что‑то вспоминал, — нет, я просто захотел описать это. Что‑то всплывает в памяти, что‑то не всплывает, у меня нет задачи воспроизвести реальные события.
«Ты разве рыжая была однажды» — это не из‑за какого‑нибудь импульса, информации в ленте, это просто я сижу у компьютера и нажимаю на клавиши. Я и в «ВКонтакте»-то никогда не состоял, просто имеется в виду любая социальная сеть, где люди встречаются после долгой разлуки.
Для молодых людей может быть новостью сам тот факт, что они пишут стихи, и они ценят этот процесс и хотят о нем говорить, а для меня важен только продукт. Мне семьдесят с лишним лет, и в этом возрасте человек уже меньше ожидает, что что‑то получится само собой. Сейчас для меня стихи это много работы, раньше было немного иначе: стихотворение получалось в значительной степени само. Почему мне вообще хочется это делать, для меня теперь тоже довольно бессмысленный вопрос, я ведь занимаюсь этим всю жизнь».
Екатерина Соколова о стихах, растущих из речевых ошибок
***
в белом окошечке регистратуры
Господи запиши и меня
что ж ты канатка моя Чиатура
не выдержала меня
падая видел отхваченных территорий
сады дома
видел подстанция видел море
видел тюрьма
база граничная
детский сад солдат
мельком
мелькомбинат

Поэтесса, лауреатка премии «Дебют», финалистка премии Андрея Белого
«Мне понравилось слово «Чиатура» — это город в Грузии. Промышленный город, где добывают полезные ископаемые. В советское время люди там ездили на вагонетках — их использовали и как городской транспорт, а на холмах над городом шла добыча руды. Всего в городе около двадцати канатных дорог, но когда мы туда приехали, работала только одна — и она была ужасна. Это такой советский лифт, в котором можно только молиться, чтоб тебя не убило: качает, скрежещет. Внизу, на входе, сидит дядька, пьет домашнее вино из полторашки: «Заходите, прокатитесь!» Мы зашли, поехали наверх, а в верхней будке сидит такая сухонькая бабуля, в два раза старше его. «Ну что, приехали». Эта чиатурская канатная дорога, конечно, наталкивает на мысли о жизни и смерти.
У Дмитрия Данилова есть стихотворение «Три дня» про человека, который умер и летает над поселком Железнодорожный, и его душа смотрит на все сверху — я держала этот текст в голове, когда писала. Мне вообще безумно нравится то, что пишет Дима про смерть, про этот переход, у него таких вещей много, и везде ощутим некий религиозный контекст, что мне тоже очень интересно.
Когда я активно писала книжку, у меня появилась привычка записывать слова, которые мне понравились, в телефон (я пользуюсь приложением Evernote). Записала эту Чиатуру, записала «мельком мелькомбинат» как возможную концовку… Записываю все, что меня зацепит: кем‑то оброненные слова, какую‑то услышанную речевую ошибку. И с этих словечек потом что‑то начинается. Вот сейчас у меня записано слово «польта». Посмотрим, будет ли что‑то с этими польтами дальше.
Чиатура. Часто использую коми-топонимы, например. Я там выросла, я знаю эти места и эти слова. Но для читателя они ничего не означают, читатель просто видит прикольное слово, интересное слово. Можно так делать вообще? В каком‑то смысле, может быть, это неважно, потому что все равно я искусственно создаю какую‑то ситуацию: я ведь не падала с этой канатки. И даже если бы упала, я бы не увидела море, тюрьму, пограничную базу. То есть даже технически это невозможно: канатка-то невысоко расположена, столько всего не увидишь».