— Вы однажды назвали себя хроникером. Что вы имели в виду?
— Бальзак любил говорить: «Я секретарь французского общества». В том смысле, что ведет учет всего, что происходит в обществе — причем не в высшем свете, а в обычном. Для меня хорошо делать свою работу — значит оперативно рассказывать новости.
Именно это выражение использовал Ницше, когда пояснял свою фразу «Бог умер». Он сказал, что это отнюдь не манифест атеизма, что он всего лишь сообщил людям новость — важнейшую новость современной истории. Он, конечно, имел в виду, что образованные люди постепенно перестают верить. Тогда же, в начале 1880-х, Ницше предсказал, что усиление в XX веке «варварских националистических группировок» приведет к «войнам, равных которым мир еще не знал». Иными словами, предрек нацизм, коммунизм и мировые войны. Неплохо, да?
В общем, когда я пишу свои книги — «Я — Шарлотта Симмонс» например, — мне кажется, что я просто сообщаю новости. Я никогда не занимаюсь политикой. Хотя в «Шарлотте» критики ее все равно нашли, особенно левые. Они вообще дико враждебно отнеслись к роману.
— А в чем были их претензии?
— Ну, они считали, что то, что я описываю, в принципе не могло произойти. Дескать, в университетах жизнь устроена совсем иначе. Но такие рецензии писали люди, которым уже за 50: они лет 30 не бывали в кампусах и понятия не имеют, как там обстоят дела. А либералы решили, что я против сексуальной революции, потому что фиксация на сексе, описанная в романе, в итоге приводит к печальным последствиям. Интеллектуалы вообще гордятся тем, что они свободны от религии и могут свободно рассуждать про секс.
— Кажется, для вас слово «интеллектуал» — почти оскорбление.
— Интеллектуал всегда возмущен. Он кормится гневом, он не может без гнева. Отличный пример — Ноам Хомский. Когда Хомский был просто одним из самых выдающихся лингвистов мира, его никогда не называли американским интеллектуалом: его считали ученым, добившимся успеха в своей области. Интеллектуалом его назвали тогда, когда он публично осудил войну во Вьетнаме, в которой ничего не понимал. Тогда-то я и понял: интеллектуал — это человек, который хорошо разбирается в каком-то одном вопросе, но высказывается публично исключительно по другим. Не обязательно глубоко понимать, о чем речь, главное — возмущаться.
Маршалл МакЛюэн однажды сказал, что самое простое, что может сделать идиот, чтобы выглядеть достойно, — это выразить свой праведный гнев. Очень верное замечание, особенно в наше время.

— Вы же очень долго были журналистом — причем очень успешным. Когда вы решили заняться литературой?
— Я сразу хотел ей заниматься. И после университета был убежден, что рано или поздно начну писать романы. Но сначала занялся журналистикой как одной из форм писательства. А потом влюбился — и в эту профессию, и в этот образ жизни. Журналист каждый день получает доказательства своего особого статуса: вот твое имя рядом с заголовком статьи, а вот полицейское оцепление, за которое ты можешь пройти. Твоя пресс-карта открывает перед тобой практически любые двери.
Потом, после того как в Нью-Йорке случилась газетная забастовка 1962 года и у меня несколько месяцев не было работы в штате, я стал писать в журналы как фрилансер — и увлекся тем, что потом назвали «новой журналистикой». И уж когда я в это погрузился — о романах и думать перестал. Я до сих пор считаю, что экспериментальный нон-фикшн 1960-х и 1970-х — самое интересное, что случилось с американской литературой за последние 50 лет. Да и до сих пор жанр вполне в форме. В отличие от романа.
— Погодите, а что с ним не так?
— Жанр катится под откос. Современные писатели в большинстве своем — выпускники факультетов изящных искусств известных университетов, а университеты эти — сплошное болото. Писатели не хотят пачкать руки и копаться в дерьме, которое есть в обществе. Их учат психологическому роману, учат тому, что книгу надо писать на основе собственного опыта. Хорошо, я согласен. Но сколько книг ты можешь написать о себе? Если бы Диккенс работал по такой схеме, он бы написал только «Дэвида Копперфильда» — и все. Толстому повезло больше: он и на военной службе успел побывать, и в высшем обществе вращался, и землю пахал. Так что осилил и «Войну и мир», и «Анну Каренину».
Для выживания романа нет никаких причин — думаю, он станет анахронизмом вроде поэзии, к которой сейчас относятся как к занятию достойному, но совсем непопулярному. Если писатели не будут выбираться из своих кабинетов, заставленных книжными полками от пола до потолка, с романом будет все то же самое. А стоило бы им заняться тем, чем занимались писатели первой половины ХХ века. Стейнбек был репортером в газете San Francisco News — и не потому, что ему были нужны деньги, а потому, что он хотел собрать материалы для книги. Именно так он попал в лагерь сезонных рабочих-мигрантов — именно так возникли «Гроздья гнева». Дос Пассос ездил по стране в поисках материала для «Манхэттена» и трилогии «США». И таких историй масса.
Вы можете написать замечательный роман на основе 25 лет своей жизни, но второй ваш роман будет про парня, который выпустил одну успешную книгу, а теперь у него нет денег, нет девушки и он летит с пятью пересадками до Бруклина и думает: «О черт». По-моему, это не слишком интересно.

— Так зачем вам тогда самому понадобилось писать романы?
— Это было своего рода испытание себя. Я опубликовал нон-фикшн про астронавтов, «Битву за космос». Впервые в моей профессиональной жизни я мог не думать о деньгах. И тогда решил: что ж, многие говорят, что «новой журналистикой» занимаются люди, которые боятся больших художественных форм; надо бы это опровергнуть. Отсюда и появились «Костры амбиций». Но все равно я первым делом договорился с Rolling Stone, что они будут печатать роман частями. Мне были нужны дедлайны, иначе я бы никогда его не закончил. Ну и, честно говоря, после «Костров» я продолжать не собирался. Но роман оказался таким успешным, что я поддался искушению и написал второй. Ну и так далее. Хотя я по-прежнему считаю, что самая великая американская литература за последние 50 лет — это нон-фикшн.
— Вы и для «Я — Шарлотта Симмонс» собирали материал? Все-таки вам уже было за 70 в тот момент, наверное, не так легко было войти в доверие к студентам и подглядеть, чем они занимаются в своих общежитиях.
— Большинство людей не понимают, что такое делать репортаж. Правда. Мол, как же старик может сблизиться со студентами? Вы же на них совсем не похожи. И что? Я не похож ни на кого, о ком я писал. Я не похож на космонавта. Я не похож на хиппи. Когда я писал про серферов в «Банде насосной станции», они считали меня старпером — а мне было 32. Ну и что? Это не помешало нам быстро сойтись. В каком-то смысле делать репортаж — самое простое занятие в мире, потому что тебе не нужны никакие специальные техники. Тебе нужна только установка: «У вас есть информация, она мне нужна — и я заслуживаю того, чтобы ее получить». Тут было ровно так же.
Любой человек, впервые очутившись в чужом окружении или в незнакомой ситуации, чувствует себя неловко. Но как только он к нему или к ней привыкает, его защитные барьеры исчезают. У меня не было никаких проблем со студентами. Я много с кем говорил, я ошивался у них на вечеринках — и все было нормально. Если люди позволяют тебе в принципе там остаться, они перестают как-то специально иметь тебя в виду через несколько часов. Это просто тяжело — все время перестраховываться. Ну и потом я же не ходил по общежитиям в белом костюме. Это было бы слишком театрально. Синий блейзер, фланелевые брюки, галстук… Правда, у меня не было особых проблем с тем, чтобы добыть информацию.

— Эти ваши фирменные белые костюмы и вообще манера одеваться известны не сильно меньше, чем ваши книги. Что для вас значит мода?
— На самом деле, все люди зациклены на моде одинаково. Есть, конечно, мужчины, которые хотят выглядеть адекватно в любой обстановке и ничем не выделяться. А есть те, кто, как я, специально чуть отступают от нормы. У моих костюмов традиционный крой, просто они все белые. То же самое с ботинками и со всем остальным.
Мне кажется, что писателю идет на пользу привлечение внимания любыми способами, поскольку книги, которые он продает, — это продукт массового потребления. Как вы понимаете, эту позицию мои коллеги-писатели не разделяют. Вы наверняка заметили, что совсем немногие из них готовы сфотографироваться для задней обложки своей книги в галстуке. Это проявление богемного стиля, представители которого стремятся так или иначе продемонстрировать, что они плевать хотели на условности. Но потом эта позиция в свою очередь сама становится условностью. В какой-то момент я решил, что если увижу еще хоть одного писателя в расстегнутой рубашке и с развевающимися на ветру волосами, то вообще перестану покупать книги.
— Вы же и в романах своих много внимания уделяете описаниям быта. Ваши критики любят на это указывать.
— Когда я еще был журналистом, я как-то инстинктивно понял, что, если описываешь современную жизнь, ты не можешь обойтись без брендов, без звуков, без конкретных ощущений того места, о котором ты рассказываешь, здесь и сейчас. Названия марок, вкусы в одежде и мебели, манера обращения с детьми и с начальниками — все это очень много сообщает о людях. Да, меня за это много ругают. Но я утешаюсь тем, что за то же самое ругали Бальзака: Сент-Бев, в частности, много писал о том, что у него фиксация на мебели. Мол, чего он заставляет нас читать эти романы, пусть лучше откроет свой магазин. Но ведь хоть мебель, хоть костюм всегда показывают, что ее обладатель думает о своем месте в этом мире — или какое бы место в нем он хотел бы занимать. Бальзак не зря часто начинал главы с описания комнаты и обстановки. Он мог указать, что шторы на окнах были не из дамаста, а наполовину хлопковые — и таким образом давал читателю полное представление о статусе тех, кто в этом доме живет.
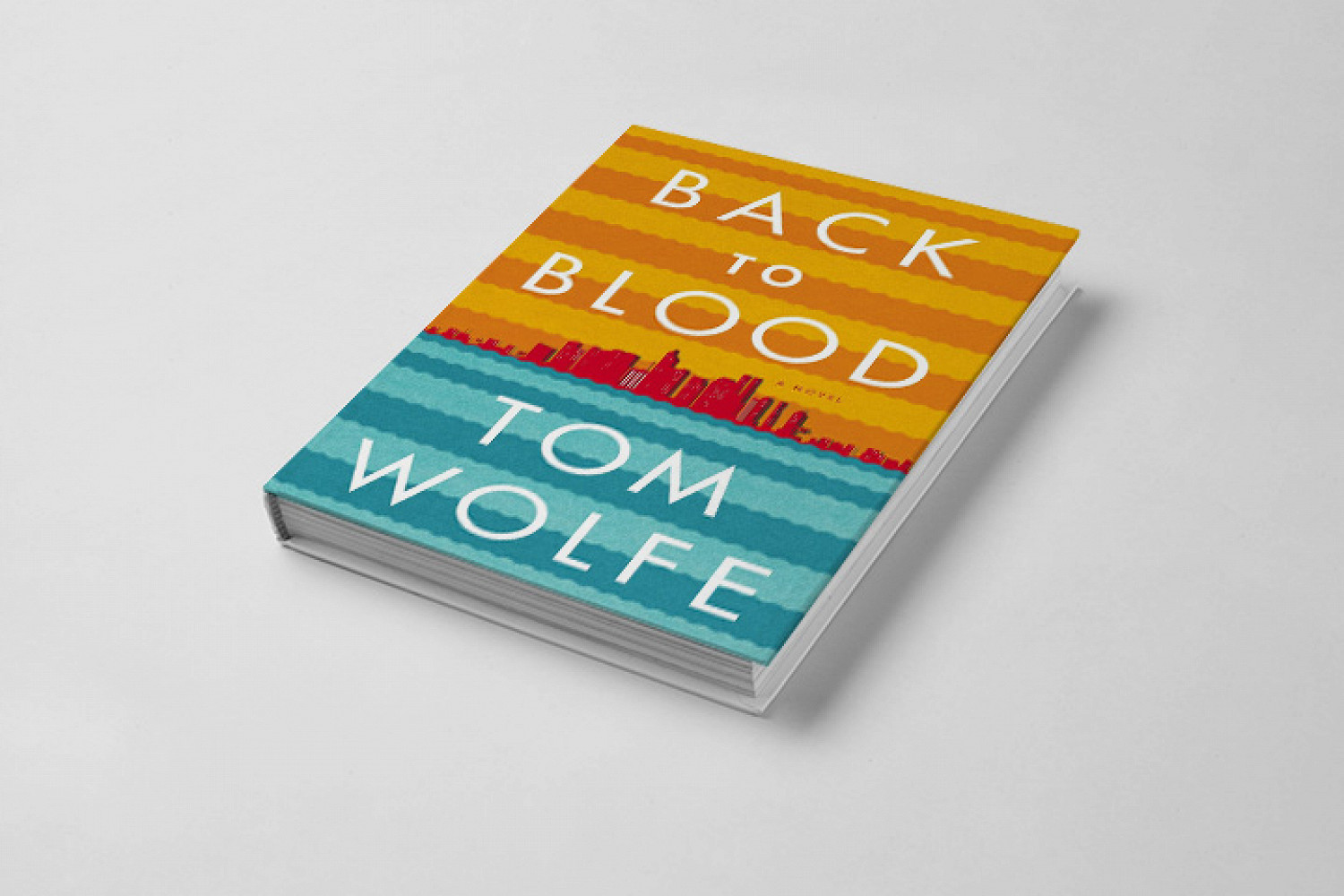
— Вы же не только писатель, но и художник. Как это вышло?
— Мать всегда говорила мне побольше рисовать. Когда я этому учился в детстве в Вирджинии, за 25 центов в неделю, была Великая депрессия — и почти в каждом штате Америки в арт-студиях преподавали обнищавшие художники, прекрасные мастера. А когда я впервые устроился журналистом в газету, меня отправили на судебное заседание писать репортаж по делу об убийстве. Фотографировать в зале было запрещено. А я увидел то, чего раньше не видел никогда и нигде: обвиняемые сидели в полуклетке, похожей на хоккейные ворота. Мне показалось это страшно несправедливым, и, пока шло заседание, я нарисовал, как это выглядело. А в газете это напечатали. Правда, потом, когда «Вашингтон пост» наняла меня как репортера, который может сам иллюстрировать материалы, я долго не продержался. Чуть с ума не сошел. Я обнаружил, что когда ты находишься на месте происшествия и рисуешь, ты не слышишь слова — только звуки. Видимо, конфликт правого и левого полушарий.
— Но от современного искусства вы, я так понимаю, не в восторге. Ваша книга «Раскрашенное слово», в которой вы прошлись по Уорхолу, де Кунингу и прочим крупным фигурам, в свое время вызвала много шума.
— Знаете, я считаю, что «Раскрашенное слово» — это история вкуса. Там нет никаких оценочных суждений. Именно поэтому она вызвала такую ярость. Арт-мир может легко разобраться с тем, кто говорит, что ему не нравится Раушенберг или Поллок. Но книга была не о том, что они плохие художники, а о том, что решения относительно того, кого стоит считать хорошим художником, принимают три тысячи человек, живущих в Нью-Йорке. Когда я сказал людям, что они просто слепо следуют суждениям определенных персонажей, — тут-то их и проняло.
Что касается сегодняшнего дня… Интересно, что абстракция выходит из моды. Начинающие художники мечтают, чтобы кто-то научил их рисовать живых людей, но в художественных школах сейчас осталось крайне мало преподавателей, которые могут научить черчению. В итоге люди просто оказываются недоучками. Они не все знают о цвете, о свете и тени. Это хорошо видно на примере Пикассо. Он бросил художественную школу, когда ему было 15 лет, под тем предлогом, что его якобы уже ничему не могли там научить. Биографы Пикассо восторженно описывают этот момент, но, к сожалению, он так и не научился перспективе. Он рисует человека (одного или двух), размещает на переднем плане какой-нибудь предмет мебели, а все, что сзади, размыто. С анатомией у него тоже не очень. На многих портретах пальцы рук у людей похожи на пучок спаржи. В ракурсах Пикассо опять же был не силен.
