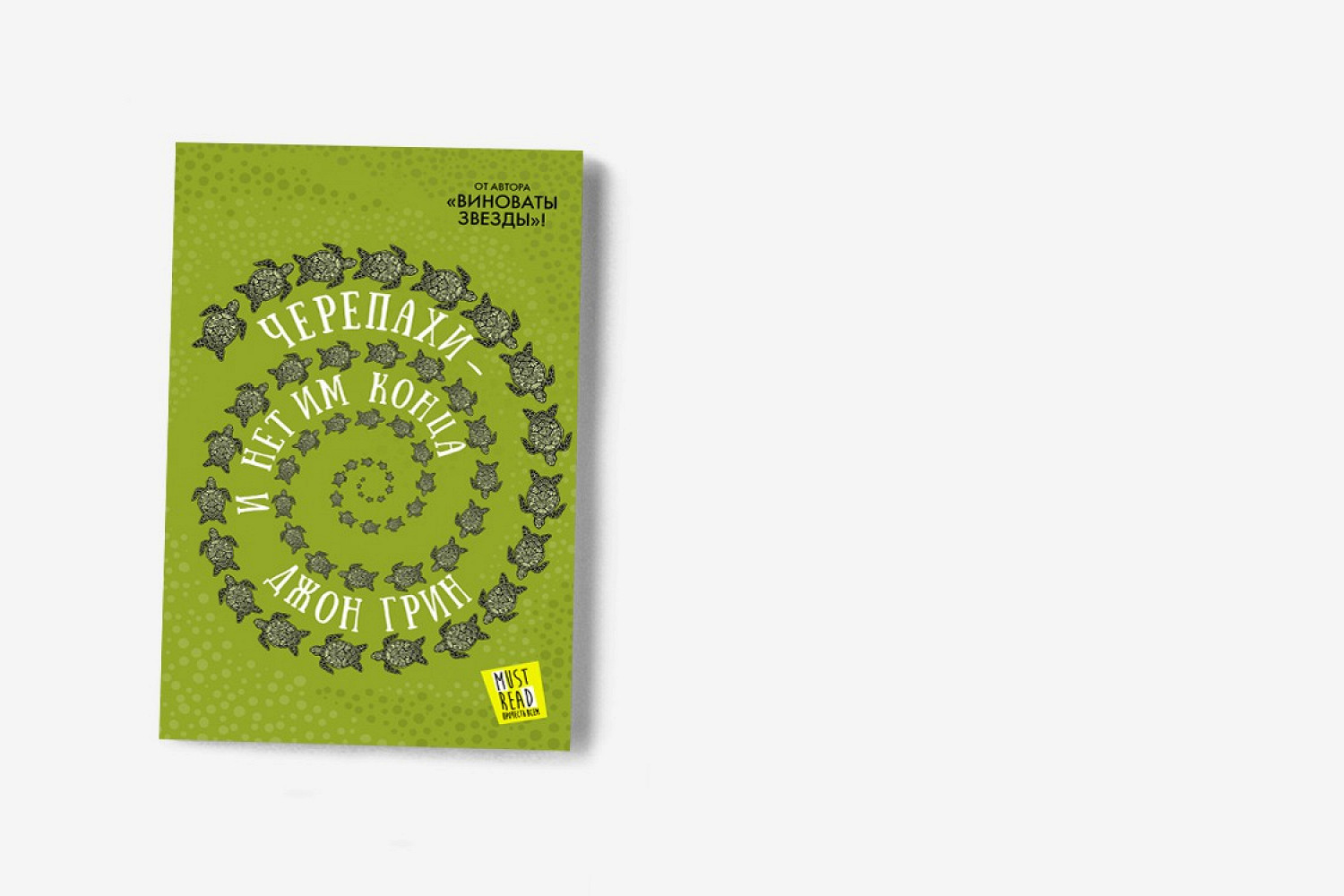В тот день после школы мне нужно было ехать к доктору Сингх, в ее кабинет без окон в огромном медицинском центре при Индианском университете в городе Кармел. Мама предложила меня отвезти, но я хотела побыть наедине с Гарольдом.
Всю дорогу я представляла, что скажу доктору Сингх. Я не умею одновременно обдумывать что-то и слушать радио, поэтому в машине было тихо, лишь сердце Гарольда тихо отстукивало механический ритм. Я хотела сказать доктору, что мне уже лучше, как и полагается по сюжету: болезнь — препятствие, через которое ты перепрыгнул, битва, которую ты выиграл. Болезнь — история, рассказанная в прошедшем времени.
— И как у тебя дела? — спросила доктор Сингх, когда я зашла к ней и села.
Стены в ее кабинете были голыми, если не считать одной маленькой картинки: у моря стоит рыбак с сетью, перекинутой через плечо. Похоже на бесплатную фотографию, с которыми продаются рамки. Доктор Сингх даже не повесила здесь ни одного диплома.
— Я, пожалуй, не управляю автобусом своего сознания, — ответила я.
— Не можешь его контролировать.
— Наверное, да.
Она сидела, скрестив ноги, и постукивала по полу левой ступней, точно пыталась послать сигнал SOS с помощью азбуки Морзе. Доктор Карен Сингх постоянно двигалась, как плохо нарисованная мультяшка, зато у нее было уникальное, самое бесстрастное лицо на свете. Она ни разу не выдала отвращения, не показала, что удивлена. Помню, однажды я призналась, что иногда мне хочется оторвать средний палец и растоптать его. И она сказала: «Так происходит, потому что в нем находится локус твоей боли». «Может быть», — ответила я. Доктор Сингх пожала плечами: «В этом нет ничего необычного».
— Тревожные размышления или обсессивные мысли не приходят к тебе чаще обычного?
— Не знаю. Но они по-прежнему лезут в голову.
— Когда ты наклеила этот пластырь?
— Не знаю, — соврала я. Она смотрела на меня, не моргая. — После обеда.
— А как с боязнью клостридий?
— Не знаю. Иногда случается.
— Ты чувствуешь, что можешь сопротивляться…
— Нет. Я все еще чокнутая, если вы об этом.
На фронте безумия — никаких перемен.
— Ты очень часто употребляешь слово «чокнутая». И злишься, когда его произносишь, почти что обзываешь себя.
— Ну в наше время все сумасшедшие, доктор Сингх. Психически здоровые подростки — прошлый век.
— Мне кажется, ты к себе жестока.
Я ответила, помолчав секунду:
— А как можно быть каким-то с собой? Если ты можешь быть чем-то для себя, значит, «Я» не что-то единственное.
— Ты увиливаешь, — я смотрела на нее и ждала. — Да, ты права, Аза. «Я» — непростая штука. Может, даже не что-то единственное. Это множество, но множества можно объединять, верно? Подумай о радуге. Одна арка из света, но в то же время и семь разноцветных арок.
— Мм, да, — согласилась я.
— Можешь объяснить на примере?
— Не знаю. Ну вот, я сижу в столовой и начинаю думать о том, как во мне живут все эти штуки, они едят для меня еду, и я типа ими всеми являюсь, будто бы я не столько человек, сколько отвратительный пузырь, кишащий бактериями. И я не могу очиститься, понимаете? Потому что грязь пронизывает меня. То есть я не могу найти в глубине себя чистую, незапятнанную часть — ту часть, где должна находиться моя душа. Выходит, что души у меня, наверное, не больше, чем у бактерий.
— Ничего необычного, — повторила она свою любимую фразу.
Потом доктор Сингх спросила, не хочу ли я снова попробовать экспозиционную терапию, которую проходила в самом начале. Если вкратце, надо, к примеру, трогать грязь пальцем, на котором есть болячка, а потом не мыть его и не приклеивать пластырь. Тогда это помогло на какое-то время, однако сейчас я помнила только свой ужас и боялась даже представить, что еще раз придется через все пройти. Поэтому я покачала головой.
— Ты принимаешь лексапро? — спросила доктор Сингх.
— Да, — она молчала, глядя на меня. — Мне страшно его пить, поэтому принимаю не каждый день.
— Страшно?
— Не знаю, — она продолжала смотреть, постукивая ногой. — В комнате стояла гробовая тишина. — Если таблетка меняет тебя, твою самую глубокую сущность… это же ненормально, правда? Кто решает, что я такое, — я сама или работники фабрики, выпускающей лексапро? Во мне как будто живет демон, и я хочу его изгнать, однако сама идея сделать это посредством таблеток… Не знаю… Она странная. Но я справляюсь и не раз пила лекарство, потому что ненавижу демона.
— Ты часто пытаешься осмыслить свой опыт через метафоры, Аза. Демон внутри. Сознание ты называешь автобусом, тюрьмой, спиралью, водоворотом, или петлей, или даже… По-моему, ты однажды сравнила его с кругом, намалеванным от руки. Сравнение показалось мне интересным.
— Да.
— Одна из трудностей, связанных с болью — физической или психологической, — заключается в том, что мы можем приблизиться к ней только с помощью метафор. Ее нельзя представить, как мы представляем стол или тело. В каком-то смысле боль — противоположность языка.
Она повернулась к компьютеру, пошевелила мышкой, чтобы вывести его из спящего режима, и щелкнула по файлу.
— Вот послушай, что писала Вирджиния Вулф: «В английском языке, который способен выразить мысли Гамлета и трагедию Лира, нет слов для озноба и головной боли. Когда самая обычная школьница влюбляется, к ее услугам Шекспир и Китс — они говорят за нее о чувствах; но попросите пациента описать головную боль, и слова тут будут бессильны». Мы настолько зависим от языка, что в каком-то смысле не можем и осознать того, для чего у нас нет названия. И тогда мы решаем, что оно не настоящее. Мы ссылаемся на него такими пространными терминами, как безумие или хроническая боль, — терминами, которые одновременно отвергают это явление и преуменьшают его. Хроническая боль никак не отражает мучительное, постоянное, неослабевающее и неизбежное страдание. А слово «безумие» даже отдаленно не передает того ужаса и тревоги, с которыми ты живешь. И точно так же эти термины не говорят об отваге, пример которой подают нам страдающие люди. Вот почему мне хотелось бы, чтобы ты описывала свое психическое состояние не словом «чокнутая», а каким-то другим выражением.
— Да.
— Ты можешь назвать себя отважной?
Я поморщилась.
— Не заставляйте меня проходить эту терапию.
— Она тебе помогает.
— Я смелый воин в моей внутренней битве за Вальхаллу, — ответила я с каменным лицом.
Доктор Сингх почти улыбнулась.
— Давай обсудим вот какой план: ты будешь принимать лекарство каждый день.
Она заговорила о том, когда мне пить таблетки, утром или вечером, и как мы попробуем прекратить их прием и начать другие, но сделать это нужно в менее напряженный период, например, на летних каникулах, и так далее.
Тем временем у меня кольнуло в животе. Наверное, просто разыгрались нервы. Однако и заражение клостридиями выглядит точно так же — у тебя болит живот, потому что в нем поселилось несколько вредных бактерий, а потом кишечник разрушается — и через семьдесят два часа ты погибаешь.
Нужно почитать про тот случай с женщиной, страдавшей от боли. Но достать телефон нельзя, доктор Сингх рассердится. И все-таки имелись у той пациентки хоть какие-то другие симптомы или все, как у меня? Снова колет. У нее повышалась температура? Черт. Началось. Ты потеешь. Доктор все видит. Может, признаться? Она ведь врач. Наверное, лучше рассказать.
— Живот побаливает.
— Клостридий у тебя нет.
Я кивнула, сглотнув, и тихо добавила:
— Но вы же этого не знаете.
— Аза, у тебя диарея?
— Нет.
— Ты в последнее время принимала антибиотики?
— Нет.
— Недавно лежала в больнице?
— Нет.
— Клостридий у тебя нет.
Я кивнула, но она не была гастроэнтерологом. В любом случае о клостридиях я знала больше. Почти тридцать процентов погибших заразились ими не в больницах, и более чем у двадцати процентов не было диареи. Доктор Сингх продолжила говорить о лекарствах, но пока я вполуха слушала ее, меня начало тошнить. Кишечник заболел уже по-настоящему, его крутило, будто бы триллионы бактерий освобождали место для новых гостей, которые разорвут меня изнутри.
Пот лился градом. Ну почему нельзя почитать о той женщине? Доктор Сингх заметила, что со мной происходит.
— Сделаем наше упражнение?
И мы начали его делать — глубокий вдох и медленный выдох, чтобы пламя свечи дрожало, но не гасло.
Доктор велела приехать через десять дней. По времени следующего визита к врачу можно определить степень моего сумасшествия. В прошлом году, бывало, меня отпускали на восемь недель. Теперь не получается и двух.
Пока я шла к Гарольду, прочитала отчет. У женщины действительно была температура. Я приказала себе расслабиться и, наверное, даже успокоилась, только ненадолго. Дома я снова услышала внутренний шепоток, что с животом определенно не все в порядке, ведь грызущая боль не утихла.
Тебе от этого не спастись, думаю я.
Твои мысли от тебя не зависят, думаю я.
Ты умираешь, в тебе жуки, они прогрызут твою кожу, думаю я.
Я думаю, думаю, думаю.
Издатель
АСТ, Москва, 2018, пер. В.Баканова