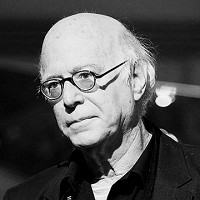
В 118 году н. э. император Адриан затеял строительство нового здания на месте прежнего Пантеона, стоявшего в той части Рима, которая называлась Марсовым полем. Первоначально Пантеон был возведен Агриппой в 25 году н. э. как храм, посвященный всем богам города. В Пантеоне Адриана божества обрели новое пристанище, которое представляло собой гигантский полусферический купол на цилиндрическом основании. Тогда, как и сегодня, самой поразительной особенностью Пантеона был свет, лившийся внутрь через отверстие в вершине купола. В ясные летние дни столп света пронизывал помещение, переходя с кромки купола на цилиндрические стены, на пол и снова вверх по стенам вслед за солнцем, движущимся по небосклону. В облачную погоду свет становится там дымкой, серой, как цементная оболочка Пантеона. Ночью массив здания изнутри как будто растворяется и только кружок звездного неба вырисовывается вверху через отверстие купола.
Во времена Адриана этот столп света озарял пространство, насыщенное политическими символами. Пол Пантеона был вымощен наподобие гигантской шахматной доски — именно такую планировку римляне использовали при строительстве новых городов по всей империи. В нишах цилиндрической стены были расставлены статуи богов: их сонм, как считалось, в гармоничном единстве поддерживал Рим в его стремлении к мировому господству. В самом деле, римляне почитали их почти как одушевленных идолов. По словам историка Фрэнка Брауна, Пантеон прославлял «имперскую идею и всех богов Империи, которые ей покровительствовали».
В 604 году, через пять веков, после того как Адриан построил Пантеон, папа Бонифаций IV освятил его, превратив в христианскую церковь Святой Марии и Мучеников. Пантеон был одним из первых языческих храмов Рима, приспособленных для нужд новой религии, и именно благодаря этому уцелел: в Средние века другие античные памятники города разрушались и использовались как каменоломни, но на церковь никто не посягал. Церковь Святой Марии и Мучеников обрела новую жизнь в качестве мартирия, прославляющего христиан, пострадавших за свою веру. Пантеон, некогда посвященный целой толпе богов, благоволивших Империи, превратился в храм одного-единственного бога, бога слабых и угнетенных. Таким образом здание стало памятником эпохальному переходу цивилизации Запада от политеизма к монотеизму.
В свое время строительство Пантеона также было связано с драматическими событиями. В Римской империи зримый порядок был неотделим от государственного могущества: власть императора была крепка постольку, поскольку ее можно было воочию наблюдать в сооружаемых при нем памятниках и производимых по его приказу общественных работах. Власть нуждалась в камне. Тем не менее Пантеон возник, как отмечает один из его историков, «в период, когда обряды и установления седой старины еще не были отвергнуты, но в воздухе уже ощущалось наступление новой, принципиально иной эпохи». В период правления Адриана Римскую империю наводнили новые культы вроде митраизма и христианства, в которых «миру незримому уделялось куда больше внимания, чем земному». Разумеется, римляне не думали, что можно буквально увидеть правивших ими языческих богов; считалось, что когда боги сходят на Землю к смертным мужчинам и женщинам, они принимают обличья, в которых не могут быть узнаны. Тем не менее люди верили, что боги повсюду оставляют зримые знаки своего присутствия, и властители Рима использовали эту веру, чтобы оправдать и упрочить свое правление, именем богов возводя по всему Западному миру памятники империи. В самом Риме таким памятником стал Пантеон, который был призван заставить мужчин и женщин узреть, поверить и покориться.
Непростые взаимоотношения между видимым и невидимым в Риме эпохи Адриана были проявлением более глубокой тревоги, связанной с человеческим телом. Хотя афинянам было известно, как мрачна и хрупка человеческая жизнь, они воспевали силу мышц и костей как таковую. К тому времени, когда Адриан начал строительство Пантеона, могучий римлянин сошел со сцены. Гладиаторы приносили присягу, которая заканчивалась такими словами: «Что с того, проживу ли я еще несколько дней или несколько лет? Мы приходим в мир, в котором нам нет пощады».
Римский писатель Сенека провозглашал, что клятва эта — «обязательство самое позорное» (turpissimum auctoramentum) — в то же время выражает почетнейшую связь между воинами и гражданами. Латинское слово gravitas переводится как «достоинство» и означает также тяжелую, непреклонную решимость. Гладиаторская присяга, которую приносили люди, клявшиеся убивать друг друга, подчеркивает эту решимость с помощью пугающего парадокса: «Мы обязуемся умереть стоя, непобежденными». Физическая сила была окрашена тьмой и отчаянием.
Пробуждение плотских желаний внушало одинаковый страх и римским язычникам, и римским христианам. Историк Карлин Бартон пишет: «Вожделение и его ужасные последствия пугали римлян не меньше, чем надежда, отнимающая силы». Однако христиане и язычники боялись похоти по разным причинам. С точки зрения христиан, она означала погибель души; по мнению язычников, влекла за собой «глумление над общественными устоями, разрушение иерархии, смешение понятий… наступление хаоса, мировой пожар, universus iteritus [«всеобщую погибель»]». В зримом порядке нуждался не только правитель, но и его подданные. В этом зловещем мире темной силы и неуправляемых страстей язычник искал успокоения, заставляя себя верить тому, что он видел на улицах и форумах города, в его банях и амфитеатрах. Не останавливаясь на этом, он испытывал потребность верить в каменных идолов, живописные образы и театральные костюмы буквально, как будто они были реальностью. Он жаждал смотреть и верить.
Римская одержимость образами касалась визуального порядка особого рода. Это был порядок геометрический, причем принципы этой успокоительной геометрии римлянин осмыслял не столько на бумаге, сколько через собственное тело. Более чем за век до Адриана архитектор Витрувий показал, что устройство человеческого тела определяется геометрическими соотношениями — прежде всего зеркальной симметрией мускулов, костей, глаз и ушей. Анализируя эти соотношения, Витрувий продемонстрировал, как устройство тела можно перенести на архитектуру храма. Другие римляне применяли схожие геометрические представления в градостроении, разрабатывая план города в соответствии с правилами зеркальной симметрии и уделяя наибольшее внимание тому, как она зрительно воспринимается вдоль главных осей. Линейка геометра порождала Линию: линии тел, храмов и городов отражали для римлян принципы идеального общественного порядка.
В отличие от живописного изображения исторического события абстрактный геометрический узор не несет в себе ощущения времени. Этот вневременной характер геометрии помогал римлянам обрести уверенность относительно времен, в которые им выпало жить. К примеру, основывая в империи новые города, они стремились измерить и разметить захваченную территорию, чтобы немедленно подчинить ее римской городской планировке. Это геометрическое клеймо, часто требовавшее разрушения прежних храмов, улиц и общественных сооружений, перечеркивало историю покоренных Римом народов.
Историк искусства Эрнст Гомбрих совершенно верно заметил, что и греки, и римляне, в противоположность известному им египетскому искусству, в своем монументальном искусстве стремились рассказывать истории. Но римлянам особенно нравилось рассматривать образы, которые подчеркивали неизменность их города, долговечность и преемственность самой его сути. Римские визуальные нарративы снова и снова повторяют один и тот же сюжет: описанные в них государственные смуты или бедствия неизменно разрешаются с появлением выдающегося сенатора, полководца или императора.
Римлянин смотрел и верил, смотрел и подчинялся непреходящему порядку. Долговечность Рима шла вразрез со временем, в котором существовало человеческое тело, — временем роста и угасания, неудавшихся или позабытых замыслов, лиц, понемногу стираемых из памяти старостью или отчаянием. Сам Адриан в одном из своих стихотворений признавал, что телесный̆ опыт римлянина входит в противоречие с вымышленным местом, имя которому «Рим».
В противоположность этому римские христиане, как это свойственно христианам, стремились утвердить особое ощущение течения времени в собственном теле, преображающемся по мере взросления. Христиане надеялись, что обращение в истинную веру избавит их от хаоса телесных страстей, что бремя плоти станет легче, а сам верующий воссоединится с высшей, нематериальной Силой. Чая этой перемены, христиане вроде Блаженного Августина придавали особое значение тому ужасу, который святой Иоанн Богослов выражал перед «похотью очей»: привлекательные зрительные образы привязывали их к миру. Христианская визуальная образность формировалась вокруг переживания света, Света Господня, который ослепляет смотрящего, лишая его возможности видеть мир или глядеться в зеркало.
Первые христиане полагали, что по мере того, как в них крепнет вера в Бога, слабеет их привязанность к тем местам, где они обитают. В этом они опирались на давнюю иудейскую традицию обездоленности, в соответствии с которой евреи рассматривали себя как духовных странников — в этом мире, но не от мира сего. Тем не менее со временем странствие набожных христиан завершилось — и они пришли молиться в храм, построенный Адрианом. Вымышленный город, имя которому Рим, возник снова, как пишет историк искусств Ричард Бриллиант, «старое стало новым, а прошлое — настоящим». С возрождением этого ощущения места христиане перестали испытывать такую настоятельную потребность в преображении тел.
Таким образом, переход от политеизма к монотеизму выявил драматический конфликт между телом, местом и временем. К эпохе Адриана пылкая любовь к своему полису, отличавшая греков, уже уступила место более тревожному стремлению к безопасности и беспокойной одержимости образами, которые владели народом, не уверенным в своих традиционных богах и в своем месте под солнцем. Переход к монотеизму ознаменовал переключение внимания с городской преемственности на внутренние изменения, отныне главное значение придавалось уже не гражданской принадлежности, а частной судьбе человека. Однако если язычник не мог преодолеть неотступные сомнения, отдаваясь царству камня, то христианин не мог уже безоглядно вверить Богу свое тело.
Издательство
Strelka Press, 2016, Москва, пер. П.Фаворова
