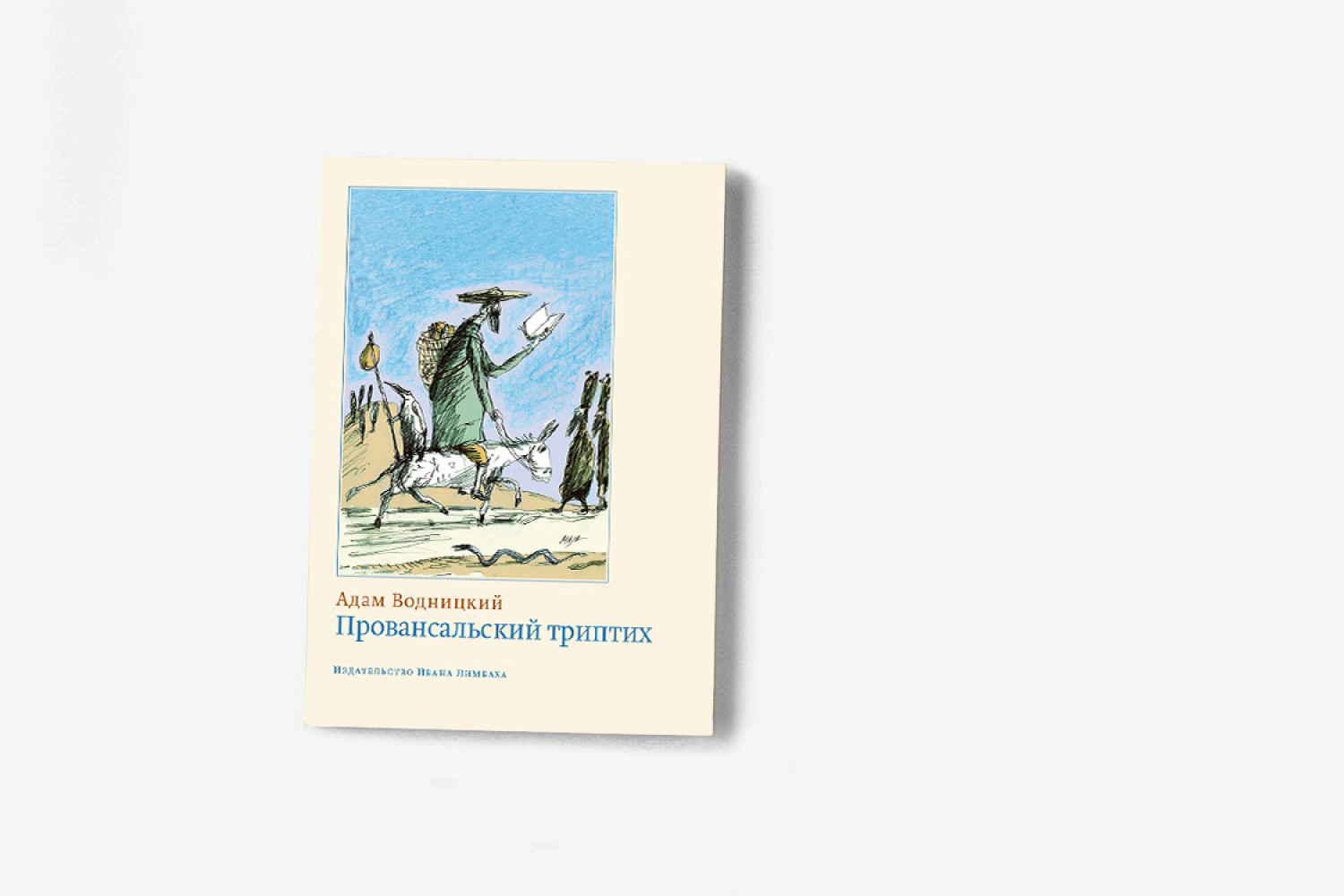Слово об Адаме
Мог ли я, отправляясь ненастным осенним вечером в московский клуб Umlaut на польско-российскую дискуссию о молодой польской прозе (шел я туда неохотно, поскольку не люблю пустых разговоров, да и тема не увлекала: с тех пор как постарел, молодую прозу я не читаю), так вот, мог ли я подумать, что на этой дискуссии встречусь с Ксенией Старосельской, которая тоже не большая поклонница молодой польской прозы — вероятно, в силу возраста, как сама говорит, оттого и для перевода ничего не находит, — а я ей на это, что в польской прозе недавно открыл «старика», который в одиночку даст фору всей пишущей молодежи, что старик этот — восьмидесятилетний Адам Водницкий — дебютировал год назад «Заметками из Прованса», в нынешнем году вышли его «Зарисовки из страны Ок», а на следующий объявлен «Арелат», третий том провансальской трилогии, и что как тут не вспомнить Лампедузу, который всю жизнь носил в себе Сицилию, чтобы на склоне лет описать ее в «Леопарде»; так и Адам полжизни посвятил Провансу — переводил его поэтов, преподавал искусство перевода в Арле — и лишь когда почувствовал, что конец жизни не за горами, что ничего нельзя откладывать на потом, ибо этого «потом» может и не быть, одним махом написал о Провансе три книги, будто исторг его из себя… Итак, повторяю: мог ли я тогда, унылым осенним вечером, шлепая по лужам Гоголевского бульвара на пути в Umlaut, предположить, что плодом нашей с Ксенией встречи станет прекрасный русский перевод «Провансальского триптиха», вместо предисловия к которому я сейчас пишу эти строки. Вместо — ибо какие могут быть преамбулы, когда речь идет о близком человеке. О друге. <…>
В материале для «Литературных тетрадей», озаглавленном «Преклоняюсь…», я назвал то, что пишет Адам, «прозой post-fiction», то есть жанром, который отвергает деление литературы на fiction и non-fiction ради того, чтобы прикоснуться к Реальности (с прописной буквы), не подлежащей ни законам линейного времени, ни аксиомам евклидова пространства, и добраться до Сути (тоже с прописной буквы!), освобожденной от самовластия разума и подчиненной внутреннему ритму эвокации. Чтение этой прозы, писал я, стало для меня путешествием к самому себе: читая Водницкого, я, хотя никогда не бывал в Провансе, будто возвращался к виденным когда-то пейзажам, к запахам и вкусам, знакомым не по своей жизни, к чужим снам, которые мне снились, и к моим авторам (Евагрию Понтийскому и Мацуо Басе, не говоря уж о Борхесе…), прочитанным кем-то другим, к сюжетам и нитям, которые я давно уже сам сплетаю (например, к мотиву потерянной дороги, оборачивающемуся темой обретенного дома), и к тому катару, которым я был в предыдущем воплощении. Словом, будто я писал о себе. <…>
Эссе «О памяти» открывает изданные в 2015 году «Анамнезы» — сборник тех самых текстов, которые я читал порознь в присылаемых Адамом мейлах; теперь, объединенные под одной обложкой, они, словно камушки в мозаичном портрете, производят еще большее впечатление, поскольку, прочитанные как целое, представляют образ автора. Да, да, автора, ибо и в «Провансальском триптихе», и в «Анамнезах» — если внимательно вчитываться — видны черты Адама (вспомним картину борхесовского художника, который рисовал пейзаж, а получился автопортрет), их улавливаешь не только в ритме фразы, но и в фиолетовых тенях платанов на брусчатке арльских улиц, в описаниях еды и подборе цитат, в реалиях и снах. Достаточно прочитать несколько кусочков прозы Адама вслух, чтобы услышать его интонацию (речь не о манере расставлять акценты, но о внутренней логике, которая по-своему объясняет мир, делая упор на духовную, то есть извечную сторону жизни, а не на время, которое всего лишь форма существования материи…), как будто слушаешь его самого, сидя рядом с ним за столом. И понятно, что автор отнюдь не стремится себя обессмертить: Адам Водницкий слишком умен, чтобы верить в бессмертие человеческих творений, скорее, полагаю, ему хотелось бы (возможно, это не до конца осознанное желание) сохраниться в своем произведении, как в оссуарии, чтобы мы могли общаться с его духом в своих странствиях по жизни.
Тайная жизнь Арля
Ленивый весенний день, часы на ратушной башне пробили пять раз. Я сижу на террасе Café de Nuit на площади Форума, в том месте, куда ведут все пути, где сходятся важнейшие невидимые артерии города. Солнце, ташист-любитель, забавляется, сочетая на стенах синий цвет с желтым, фиолетовый с зеленым. Ветерок выдувает из трещин в камнях пыльцу, смешивает, будто в реторте алхимика, травяной вкус абсента с запахом дыма, чабреца и оливкового масла, добавляя туда же шелест молодых листочков и щебет примостившихся на бронзовой шляпе Мистраля воробьев. Снизу, с набережной Роны, доносятся обрывки разговоров, девичий смех, стаккато высоких каблуков; кто-то издалека машет мне рукой. Узнаю булочника из Au petit déjeuner — еще сегодня утром я покупал там багет.
Маленькая, почти всегда пустая булочная-кондитерская — место необыкновенное! Заходя туда, приоткрываешь дверь в мир, которого уже нет. Над головой звенит серебряный колокольчик, будто сигнал к отъезду во вторую половину XIX века. Пол выложен бело-красно-черной плиткой. Посередине похожая на кафедру полукруглая деревянная стойка, окованная латунью; на стойке старинный кассовый аппарат, рядом серебряная тарелочка для монет. Дальше, в глубине, корзины с багетами; на резных полках вдоль стен (обои в бледно-лиловую полоску с розочками) — viennoiserie* на тарелочках из гофрированной бумаги: бриоши, песочные пирожные, тарталетки, засахаренные фрукты. В свободных промежутках — дагеротипы и фотографии в серебряных рамках: Фредерик Мистраль с крохотным фирменным пакетиком на указатель- ном пальце, какие-то усатые мужчины перед изысканной devanture** кондитерской, девушка в соломенной шляпке с лентой, длинном платье с турнюром и с кружевным зонтиком в руке. Раскрашенные акварелью фотографии унтер-офицеров из расквартированных в Арле 2-го и 3-го Зуавских полков: темно-синие куртки с золотым шитьем на рукавах, красные шаровары, кепи с квадратным козырьком. В воскресенье, после церковной службы, они покупали здесь бриоши и пирожные своим девушкам, а может, барышням из домов терпимости на улице Вер или Сент-Исидор.
Грозный облик военных на фотографиях заставляет вспомнить случай, который и за давностью лет не стерся из памяти жителей города, — о нем рассказывают до сих пор.
11 марта 1888 года перед входом в один из публичных домов на улице Реколетт, 30, произошла ссора, в ходе которой двое подвыпивших итальянцев зарезали двух зуавов из местного гарнизона. Возмущение арлезианцев было так велико, что все итальянцы (их в городе насчитывалось от 500 до 800 человек), включая даже бедных трубочистов-савояров, поспешно бежали из города.
Свидетелем этого происшествия был некий рыжеволосый художник — недавно прибывший в Арль иностранец, поселившийся в двух шагах от этого места, в Желтом доме на площади Ламартина, 2. Что он делал поздним мартовским вечером на улице, пользующейся сомнительной репутацией, неизвестно. Зато известно, что, как очевидец, он, вместе с еще несколькими свидетелями, был препровожден в жандармский участок, где дал показания.
Спустя несколько дней он писал брату:
«На днях я присутствовал при расследовании преступления, совершенного у входа в один здешний публичный дом, — два итальянца убили двух зуавов. Я воспользовался случаем и заглянул в одно из таких заведений на маленькой улочке Риколет… этим и ограничиваются мои любовные похождения с арлезианками.
Толпа чуть-чуть не линчевала убийц, сидевших под стражей в ратуше».
Следует заметить, что Винсент не сторонился публичных домов. Это не считалось зазорным, больше того, среди художников было общепринято. Анри Тулуз-Лотрек в Париже целыми неделями жил в доме терпимости на улице де Мулен, окруженный заботой обожавших его девиц. Там был его дом, там создавались его необыкновенные картины. «Бордель? Ну и что? Я нигде не чувствую себя более уютно», — писал он.
Через несколько дней Винсент Ван Гог признается в очередном письме к брату:
«Сказать тебе всю правду? Тогда добавлю, что зуавы, публичные дома, очаровательные арлезианочки, идущие к первому причастию, священник в стихаре, похожий на сердитого носорога, и любители абсента также представляются мне существами из иного мира».
Но уже 20 апреля 1888 года он пишет своему другу Эмилю Бернару:
«Я видел здесь публичный дом в воскресенье (впрочем, и в будни тоже): большая зала, выкрашенная подсиненной известью, — ни дать ни взять, сельская школа; добрых полсотни военных в красном и обывателей в черном; лица великолепно желтые и оранжевые (таков уж тон здешних физиономий); женщины в небесно-голубом и киновари, самых что ни на есть интенсивных и кричащих. Все освещено желтым. Гораздо менее мрачно, чем в подобных заведениях Парижа: в здешнем воздухе не пахнет сплином».
В другом письме тому же Эмилю Бернару, автору иллюстрированной десятью рисунками поэмы под названием «В бордель!», Винсент пишет:
«Браво! В бордель! Да, именно это следует делать. И уверяю тебя, что почти завидую твоей удаче — ведь ты ходишь туда в военной форме, от которой все эти милые бабенки без ума. <…> Мое «Ночное кафе» — не бордель; это кафе, где ночные бродяги перестают быть ночными бродягами, потому что плюхаются там за стол и проводят за ним всю ночь. Лишь изредка проститутка приводит туда своего клиента. Впрочем, зайдя туда однажды ночью, я застал там любопытную группу — сутенера и проститутку, мирившихся после ссоры. Женщина притворялась безразличной и надменной, мужчина был ласков».
И еще в одном письме, от декабря того же года, тоже Бернару:
«А теперь об интересном. Мы совершили несколько вылазок в публичные дома и, весьма вероятно, будем часто ходить туда работать. В данный момент Гоген работает над полотном с тем же самым ночным кафе, которое писал и я, но с фигурами, которые мы видели в публичных домах. Картина обещает быть красивой».
В сегодняшнем Арле следа не осталось от публичных домов, да и вообще от всего quartier réservé— «веселого квартала» — с его специфическим фольклором, красными фонарями, кафе, залами для народных балов, ночной жизнью. Не стоит считать такие кварталы своего рода гетто. Правда, в первой половине XIX века для обитательниц домов терпимости вводили некоторые ограничения: им, например, запрещалось по воскресеньям и в праздники появляться на площади Республики после мессы в соборе Святого Трофима, а также в других публичных местах, однако ограничения эти были формальными и не особенно соблюдались. Те же самые должностные лица, которые их вводили, частенько под покровом ночи стучались в двери домов под красным фонарем, а когда приходила пора, приводили туда и подрастающих сыновей.
В повседневной жизни девицы не сталкивались с остракизмом. Они — стараясь не привлекать к себе внимания — посещали церковь, по средам и субботам отправлялись на рынок за покупками, погожим весенним утром могли, наняв коляску, под кружевными зонтиками отправиться на пикник, принимали живое участие в безумствах пасхальной фиесты, посещали театр — им даже были выделены места на галерке. Вписавшись в давно сложившуюся социальную структуру, они жили жизнью города, заняв там свое законное место.
Девицы эти всегда привлекали художников и писателей, нередко становились героинями романов, театральных пьес, поэм — начиная от Фрины и до вийоновской «толстухи Марго», от Пышки до «сестер милосердия».
Сегодня трудно представить себе французскую (и не только французскую) литературу XIX века без домов терпимости, любви, скандалов, трагикомедий, вымышленных или подлинных драм обитательниц этих домов на страницах произведений Бальзака, Доде, Флобера, братьев Гонкур, Гюисманса, Золя и, конечно же, Ги де Мопассана. И столь же трудно вообразить светскую жизнь без парижских салонов, где знаменитые куртизанки — особенно в период Второй империи — диктовали моду, создавали образцы элегантности, помогали своим избранникам строить карьеру, будь то политика или искусство.
Их рисовали лучшие художники всех эпох, от Витторе Карпаччо до великих голландцев. Чем было бы творчество Сезанна, Тулуз-Лотрека, Ренуара, Мане, Модильяни без девиц легкого поведения? В более близкие к нам времена они вышли на первый план в романах, фильмах, песнях, почти в любой своей ипостаси вызывая сочувствие и симпатию как воплощение женского очарования и тепла, как олицетворение зрелой мудрости, приобретенной горьким опытом и оплаченной дорогой ценой.
- Кондитерские изделия высочайшего качества (франц.)
** Витрина (франц.).
Издательство
«Издательство Ивана Лимбаха», 2016, Санкт-Петербург, перевод К.Старосельской