
«Писатель, который преодолел тяготы и бремя своего круга и которого начинает читать уже следующее поколение, собственно, является классиком. Довлатов действительно вышел за рамки поколения, и его творчество стало частью нашей литературы. Проблем, связанных с Довлатовым, огромное количество, и, может, частично мы их сейчас как-то коснемся. Потому что на самом деле он был человеком необыкновенного ума: каждая его строчка наполнена каким-то смыслом и содержанием. Он не писал ничего просто так; никаких лирических отступлений, никаких заранее заготовленных идеологических конструкций в свои произведения не включал. И никакой идеологией сам не обладал, слава богу. Конечно, у него, как у любого художника, было собственное мироощущение, художественное восприятие, принципы и так далее, но это он сказал то, что теперь многие повторяют: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Это очень важно, потому что мы живем в слишком политизированное время. Мы питаемся этой политизацией непрерывно, забывая, что главные человеческие страсти проходят мимо этих социальных катаклизмов, мимо того, что мы зовем исторической жизнью. <…>
Главная форма произведений Довлатова — это все-таки диалог. Если вы внимательно почитаете его книги с этой точки зрения, вы увидите, что они, эти диалоги и эти рассказы, хороши, потому что там всегда дует ветерок свободы. Иногда — безумия и всегда — свободы. И это действительно очень важно и очень приятно: проза Довлатова — она абсолютно человечна. <…> Он никого не осуждает, а просто показывает, что это вот завшивевший мальчик (рассказ «Ариэль»), это зек за решеткой и вот это преуспевающий человек. То, что разрушает Довлатов в своих произведениях, — это религия благосостояния, преуспевания. И в этом смысле он оппозиционен любой власти. В то же время многие его любят — даже те, кто считает себя адептом господствующей партии. Основные качества, которые есть в его прозе, гораздо глубже, чем политические или идеологические распри, и не могут к себе не притягивать. Поэтому я думаю, что Довлатова будут читать всегда».

«Все мои воспоминания о Довлатове такие яркие, потому что в каждом есть какая-нибудь изюминка, какой-нибудь неожиданный ход и переворот сюжета. Вот так он жил: он находил эти сюжеты, добывал их из всего, что было вокруг. Первая встреча наша была такой: за бутылкой мы оказались в его комнате на Рубинштейна и только хотели, значит, приступить, как вошла мама Нора Сергеевна, и он сказал: «Знакомься, это Валерий Попов». Она сказала: «Хорошо, что Попов, плохо, что с бутылкой». А он говорит: «Нет, он здесь ни при чем, это моя бутылка». И тогда я: «Нет, Сергей ни при чем, это моя бутылка». И Нора Сергеевна сказала: «Если вы не знаете чья, значит — моя». И унесла ее с собой. И вот все встречи были такими отточенными — отточенными фразами, отточенными сюжетами. Знаете, Довлатов выжигает все такое скучное, теоретическое, неопределенное. Правда и литература — это очень важный вопрос для Довлатова. И честно скажу: вот эту историю, которую я рассказал уже раз девять только сегодня, — ее не было на самом деле. Но она востребована в средствах массовой информации, потому что она короткая, ясная и немножко смешная. Вот поэтому выдумывать можно; нужно, чтобы литература была лучше жизни, лучше правды. И по-моему, Довлатов этим и занимался — за что, может быть, со стороны правды ему и доставалось. И вот эта его работа превращения правды в жизнь и в литературу — вот это, по-моему, самый мучительный процесс, на котором он и сгорел».

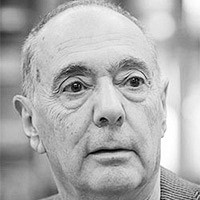
«<…> Последние 25 лет напрашиваются быть сроком публичного взлета Довлатова, признания, читательской и гражданской преданности ему, как время, отсчитываемое, во-первых, с его смерти в 1990 году, во-вторых, от начала массовой публикации. Даты очень близкие. Но нынешние торжества проходят в период менее восторженный по отношению к его имени и памяти о нем, чем любой из предыдущих в продолжение этого 25-летия. Менее восторженный, а в переводе на язык докладной, менее благоприятный. Потихоньку-полегоньку сложилась или складывается антидовлатовская клака. Под сурдинку фейсбучно и в голос на него наезжают за то, что он не Набоков и не Саша Соколов. Что пишет без необходимой, по мнению клакеров, пропитанности текста изощренностью, изысканностью, а хоть и манерностью. <…> Но Довлатов рассказал о себе — на бумаге и в живом разговоре — столько неблагоприятного, что сегодняшнее фырканье вряд ли ему повредит. Я, кстати сказать, никогда не был уверен, не ловит ли он меня, рассказывая эти саморазоблачительные истории, не ждет ли, чтобы я сказал: «Ай-ай-ай, как нехорошо».
Да он и не скрывал, что его удовлетворяет положение в фарватере Куприна. Или, как напомнил мне недавно Бобышев, Уилльяма Сарояна. Так что никакие претензии к нему не отнимут у нас удовольствия, полученного от изданных и массово прочитанных в последние 25 лет его книг. От выклевывания из них особенно прелестных его фраз, цитирования их в компаниях. Непосредственно у меня — от встречи на лесной дороге по пути с Волги, когда из группы молодых людей, разминувшихся со мной, бегом вернулся парень и спросил: «Вы Найман?» Я подтвердил, и он, не до конца веря, спросил: «Вы знали Сергея Довлатова?»
А больше всего удовольствия — от того, что он, на наше счастье, не гений — в которые его неустанно подпихивают фаны, приводя неприятелей во все большее негодование. Просто у него был ястребиный взгляд, следящий, не подползает ли к здравому смыслу какая красивая змейка. Как-то раз в Америке я сказал нашему общему приятелю, что здесь в небе, когда ни посмотри, всегда висит около дюжины летательных аппаратов. Он ответил, что и на него это производило в первое время впечатление и он даже написал об этом Довлатову. Тот ответил открыткой: «Это очень интересно, но где кожаная куртка, которую я жду уже второй месяц?» <…>
Cкажу под конец не о литературе. Пишется и о написанном говорится много. А вот о том, как он двигался по ленинградским тротуарам, почти ничего. А это, на мой вкус, было отнюдь не менее внушительно, чем то, что он писатель. Он шел довольно быстро, крупными шагами. Шаг был грузный, ступня ставилась с наглядным упором. Потом на эту ногу переносил вес тела с какой-то грацией, легкость которой подчеркивала никуда не уходящую тяжесть. Он как бы и утверждался, и продолжал пробовать утвердиться — вереница сдвигов, в которой проглядывало словно бы нечто конькобежное. А я был легкий от природы, идти рядом с ним мне было одно удовольствие. Или наблюдать, как он приближается. Или даже просто смотреть с другой стороны улицы. Создавалось впечатление, что улица — и люди, и здания — волочится за ним. И в общем, весь Ленинград. Что он такой бурлак на Фонтанке. Это было классно. Это уже не повторится. Такого пешехода, в которого всматривались и на которого оглядывались, нет больше в городе».

«<…> Есть такое мнение, что о творчестве Сергея Довлатова написали уже довольно много. И возникла целая парадигма мнений — что очень важно, не звучащих в унисон, а принципиально противоположных. И не думаю, что это клака, ведь люди, которые с разной степенью резкости и неприятия пишут о нашем авторе, фактически вряд ли составляют некое сообщество. Рассуждения такого типа могут возникать по разным поводам и в разных случаях. И очень легко построить такую парадигму, наметить такое поле, когда на предельный вариант одного суждения возникает предельный вариант другого. «Довлатов — современный классик», — и мы с радостью все поднимем руки. Но откроем другую работу, где скажут: «Да нет, вполне дюжинный писатель, которому просто повезло». Или кто-то будет писать о долгом, мучительном пути к признанию, тяжелой литературной работе, а кто-то скажет, что это был проект, который писатель очень хорошо осуществлял, и вообще это была идея Бродского, который почему-то долго помогал Сергею Довлатову.
Любимая форма Довлатова — псевдодокументализм, когда реальные люди становятся литературными персонажами, и они настолько убедительны, интересны, значительны, глубоки, что заменяют реальных людей? «Да ничего подобного, — говорил в интервью радио «Свобода» Марк Поповский. — Сергей был пасквилянт, который вообще не умел выдумывать и выставлял в весьма неприглядном свете самых разных людей». И вот такую оппозицию, такую систему противопоставлений можно вести вплоть до того, что слова в предложении должны начинаться с разных букв. «Как замечательно, — скажут одни, — он относится к прозе, как к поэзии!» Выйдет другой человек с умной физиономией и скажет: «Нет, это какая-то чепуха, какая-то глупость, это все равно что веревочки здесь на полу раскидать и приседать на каждом шагу». <…>
Проблема-то в том, что по-настоящему полный объем творчества писателя Довлатова среди присутствующих знают, может быть, три или четыре человека. Да, существует неопубликованный роман. Есть сборник «Пять углов», и там есть рассказы, которые никто не знает. <…> Может быть, имеет смысл более широко взглянуть на писателя Довлатова. То есть мне кажется, что очень важно в данном случае попытаться не только углубляться в то, что уже есть, но и расширить контекст. Речь как раз о том, что писатель Сергей Довлатов, которого называют классиком, на самом деле гораздо шире, многообразнее, чем нам это представляется».


«<…> Я бы просто хотела прокомментировать две вещи — собственно, одну вещь прокомментировать, другую сказать. Вот относительно группы, «клаки», которая выступает против Довлатова как писателя и ищет такое слабое место, чтобы закричать: «Вот-вот, смотрите, это никуда не годится». Они — и это показательно — каждый раз оказываются в исключительно глупом положении, потому что забывают одну вещь. Тексты Сергея живы. Почему — неизвестно. Это вызывает раздражение у тех людей, кто много работал над тем, чтобы создать себя как писателя. Там говорит обида, там говорит ревность, там говорит ярость, там говорит непонимание: «А почему его тексты любят, почему он любимый массовый писатель?» Это почти ни с кем не происходит. Есть писатели массовые, есть писатели великие, есть писатели особенные, есть писатели, вызывающие раздражение, а Сергей — писатель любимый. Вот как это так? И люди, которые много-много работали, чтобы достигнуть вот этой любви, но не достигли, потому что насильно мил не будешь, — они не понимают, что происходит. И это действительно не очень понятно. <…> Что делает его текст хорошим — этого нам знать не дано. Но каждый чувствует, когда мимо что-то живое прошло, а когда — что-то мертвое».

«Я позволю себе продолжить академическую тему: в случае Сережи это сделать довольно сложно, но забавно. Приведу только один пример. У него, как вы знаете, персонажи часто носят те фамилии, которые у них были в реальности. В редакции, где мы вместе работали, служил некий Кленский. Каждое утро он начинал с известия о том, что никогда в жизни не изменял своей жене, и это производило какое-то томительное впечатление на собравшихся на летучку людей. А в тексте, сохранив фамилию Кленского, безупречного в своей нравственности, Сережа наградил его триппером. Потом прошло время, Кленский сделал блистательную карьеру, прошел в местное правительство на определенном этапе освободительной борьбы маленькой Эстонии. Встал вопрос о том, чтобы поставить Довлатову памятник. Его бы поставили, но против этого яростно боролся Кленский, объясняя каждому заинтересованному лицу, что никогда триппером не страдал и поэтому, пока он у власти, памятник Довлатову ставить не следует. Потом прошло еще какое-то время, начали выходить документальные фильмы о Довлатове, и кинематографисты, приезжая в Таллин, стали разыскивать персонажей — в том числе и Кленского. И тот стал давать интервью о том, какой великий писатель Довлатов. Но в конце каждый журналист, каждый кинематографист его все-таки спрашивал: «Скажите, вы страдали триппером?» И он перестал давать интервью. В «Звезде» несколько лет назад проходила довлатовская конференция. Приехали ученые, литературоведы, говорили о необходимости достойного академического комментария — всплыла и история с Кленским. И профессор из Таллинского университета во время перерыва подошел ко мне и говорит: «Елена Григорьевна, простите, пожалуйста, но вы же работали вместе, скажите, был триппер у Кленского или все-таки не было?»
Хочу процитировать одно письмо Довлатова ко мне, в котором он пишет: «Вы спрашиваете, как обстоят мои дела. Представьте себе человека, который только что обокрал сберкассу, взял большую сумму и еще не попался. То есть дела его как бы хороши». И вот мне думается, что в этой шутливой фразе заложен глубинный смысл, которому Сергей следовал в своих произведениях. <…> И еще одно соображение позволю себе: у Довлатова есть часто повторяющийся образ луны, которая равно освещает путь хищнику и жертве. Это определение он относит и к Пушкину, и к своей жене, это тот идеал отношений в жизни, который он хотел бы воплотить. И у него практически нет героев, которые возбуждают наше возмущение или отвращение. Потому что все милые негодяи, очаровательные подонки вызывают у нас чувство симпатии или как минимум иронии. У него есть только два героя, которых он явно не любит, — это счастливые Фима и Лора из «Иностранки». Для Довлатова понятие счастья было точным обозначением бездарности, поскольку только бездарный человек может быть счастливым. Я все-таки процитирую еще раз его письмо: «Поэзия есть форма человеческого страдания, и не бывает так, чтобы хорошая жизнь и хорошие стихи, а бывает только так, что плохая жизнь и тогда стихи замечательны». «А если у вас будет хорошая жизнь, — пишет он мне, — то вы станете автором книг «Биссектриса добра», «Геометрия человечности», «Верблюд смотрит на юг», «Дождь идет ромбом», «Веди меня, Русь». В молодости Сергей говорил мне: «Лиля, у вас нет горба, вы не хромаете и вы даже шумно не развратничаете, то есть об этом еще никто не говорит. Это недопустимо для поэта». <…> И вот в одном из самых последних интервью Довлатов рассказывает, что он безумно полюбил тот летний домик, который образовался у них с Леной, Катей и Колей в конце его жизни. И что он увлечен какими-то работами по дому и даже, если я не ошибаюсь, повесил сам дверь. И дальше он говорит: «Я понял, что это счастье — заниматься своим домом, заниматься своей семьей, и, может быть, если начать все сначала, то и не следовало бы заниматься литературой». Он считал, что главная заповедь — «Не суди». И я думаю, что в этом последнем интервью он отказался судить даже тех людей, которые были счастливы. Потому что почувствовал, что счастье тоже возможно».


«<…> Я вдруг понял, чем близки Довлатов и Шварц — это вежливые писатели. Русская литература очень невежлива. Она лезет в душу. Она рвет душу напополам, сообщает о счастье, о несчастье, о великих проблемах, о живом, о мертвом, она литература Достоевского, Чехова, Толстого. Она, грубо говоря, грузит. А Довлатов и Шварц вежливые, они не грузят. Они понимают, что у собеседника, у визави есть свои проблемы: у него, может, жена ушла. <…> Что же касается так называемой довлатовской клаки, то ярость против нее, мне кажется, тоже несправедлива. Мне очень нравится одно высказывание Юрия Тынянова: «Только в гладко написанных школьных учебниках все гении и все сильные писатели друг друга хвалят, друг другу наследуют». <…> Есть элементарные законы литературного развития, их же не перейдешь. Это не клака, это некий закон. Да, не принимают, и что? В конце концов, гораздо важнее то, о чем говорит Татьяна Толстая и что является некой загадкой: Сергей Довлатов, по-моему, даже не подозревал, что он станет писателем, по которому будут выстраивать жизнь. <…> Что и вовсе удивительно: как можно строить жизнь по человеку, который живописует сплошных лузеров? И под конец я скажу, в чем, мне кажется, тайна Довлатова, кроме его вежливости: он, как и Джордж Оруэлл, правильно понял, что жизнь человеческая, если на нее посмотреть изнутри, предстанет чередой сплошных поражений. Любой человек прекрасно знает — если он не болен манией величия человек, — что он, в общем, скорее проиграл, чем победил. И Довлатов рисует людей, которые потерпели поражение, а все равно остались не то чтобы счастливы, но обаятельны, веселы, остроумны».

«<…> Я, собственно, здесь выступаю как представитель фан-клуба Сергея Довлатова, как простой читатель. Шаламов говорил, что великая русская литература несет огромную ответственность за ГУЛАГ. Русская литература — это литература истерики, надрыва, максимальных моральных нагрузок, которые встречает обыватель, — как у Достоевского, так и у Толстого. И есть только одна альтернативная традиция, которая идет от Пушкина через Чехова к Довлатову: у них обыватель — положительный персонаж и нормальное состояние человека. Обыватель несчастлив, потому что не поглощен этими запредельными энергиями, которыми бурлят Достоевский и Толстой, но только обывательское существование есть в каком-то смысле европейское существование. Это жизнь простого человека, который несчастен с русской точки зрения: он выбрасывает мусор в мусорный бак, а не на балкон к своему соседу, воспитывает своих детей и вовремя платит налоги — и все это ужасно скучно. Но на этом строится стабильность современного мира, и этот человек не орудие всемирного разрушения, как считал Константин Леонтьев, а орудие всемирного созидания. Я не мог бы представить себя ни Раскольниковым, ни любым из братьев Карамазовых, а вот персонажем из любой книги Довлатова — вполне. И это порождает бессознательную любовь, которая сильнее сознательной. <…> Наконец, последнее, что я бы хотел сказать: глубина Довлатова еще не до конца нами осмыслена. Очень правильно сформулировано Поповым в его книге о Довлатове: он был первым, кто преподнес Ивана-дурака как главного героя русской литературы. А ведь он и есть главный герой не русской литературы, а всей русской жизни и всего русского бытия и сознания».

«Вот Татьяна Никитична говорила о непонятности, о сложности ответа на вопрос, почему Довлатов так любим и так действует. Ну вообще, он действует по-разному. Есть, я так понимаю, две категории читателей: та, которую Довлатов развлекает, и другая, которую, конечно, развлекает тоже (потому что куда деться от этого совершенно особого юмора), но и глубоко печалит. Вот я, сразу скажу, принадлежу ко второй категории: для меня Довлатов — очень грустный писатель. Существовало, как вы знаете, такое словосочетание «оптимистическая трагедия» — а у него, я бы сказал, «ироническая трагедия». <…> Я вообще очень сочувствую филологам, потому что им придется изучать и объяснять Довлатова — пройти мимо него литературоведению не удастся. Но это будет очень трудно. Скажем, комментировать и интерпретировать Бродского — это одно наслаждение, потому что, так сказать, дает массу возможностей. Довлатов жесток в этом отношении: он прост и прозрачен. При этом когда я читаю Довлатова, то даже в самых, казалось бы, легких и веселых вещах под иронией и юмором ощущается этот трагический смысловой строй. <…> У меня есть такое соображение о том, в чем заключается великая загадка Сергея Донатовича. С одной стороны, кажется, что это достаточно изощренная литература — он стилист, — а с другой, это какое-то интересное промежуточное явление, потому что тексты Довлатова необычайно близки к тому бытовому материалу, из которых они вырастают. Довлатов — писатель (и таких, в общем, не много), вступающий в отношения со своими персонажами. <…> То, что я говорю, не несет негативного смысла: наоборот, это очень важный культурный опыт. Очевидно, это многое объясняет в том обаянии, которым Довлатов обладал. Что еще воздействует на читателя? Сочувствие даже не к герою — к писателю. <…> Он ощущал жизнь как очень опасное пространство и все время был готов к сопротивлению. А это достаточно утомительная и изнурительная форма существования. Я в этой связи вспомнил про книжку Дианы Виньковецкой «Илюшины разговоры», в которой она записывала за своим маленьким сыном то, что он говорит. В частности, он вернулся домой после первого дня в школе, и мама его спросила: «Ну, как тебе там было?» И Илюша ответил: «Учительница меня еще не обидела, но чувствую, что каждую минуту может обидеть». Конечно, я не склонен проводить прямые параллели, но вот это ощущение опасности жизни, мне кажется, сквозит в довлатовской литературе — в том подспудном слое, который лежит ниже юмора, шуток и парадоксальных ситуаций».
