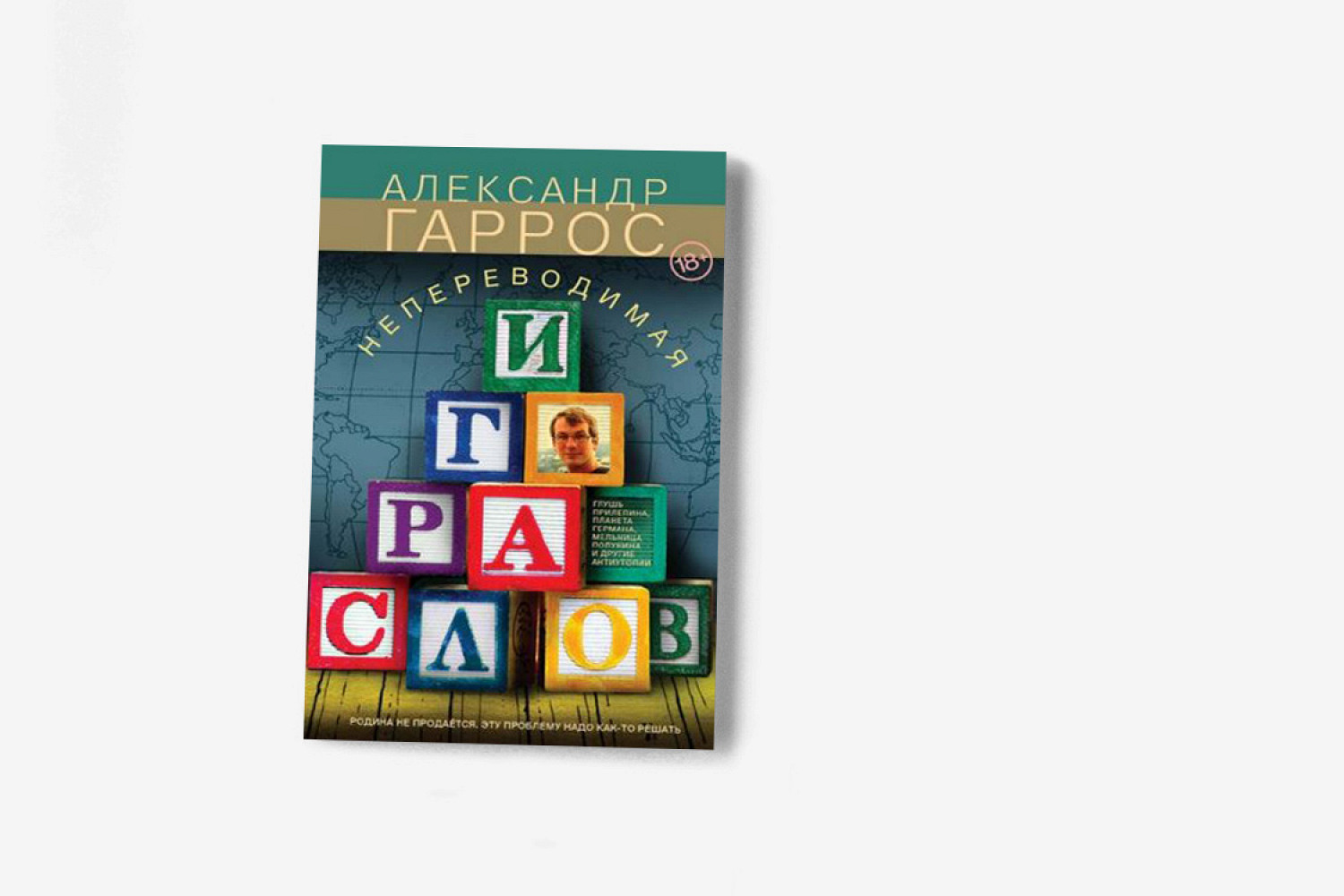В самой фамилии Гаррос слышится нечто французское, трехмушкетерное: Атос- Гаррос-и- Арамис; и не только фамилии; Гаррос и пишет как фехтовальщик — элегантными, сухими, чистыми, точными движениями-уколами, играючи — с хорошей осанкой; и, пожалуй, челюсть, которой позавидовал бы и Жан Маре, усугубляет сходство этого писателя с иконическими персонажами авантюрного рыцарского романа.
Публицист Гаррос вышел из беллетристики. Пятнадцать лет назад вместе с Алексеем Евдокимовым они, тогда еще оба рижане, написали «Головоломку» — историю про «латвийского психопата», банковского работника, чья подпитанная знакомством с «контркультурными» текстами аллергия на капитализм в целом и на корпоративную культуру в частности не позволила ему канализировать свою энергию в разговорах у кулера; с тех пор много воды утекло — но людей, которые в 25 лет способны сочинить «поколенческий манифест», больше не появлялось. Разумеется, «Головоломка» была экспериментом, попыткой гальванизировать литературу за счет киноприемов; но хотя в качестве ролевой модели тот герой выглядит сейчас чересчур эксцентрично, эксперимент пережил свое время; а то, что эта вещь 2002 года медленно дрейфует в список чтения для подростков — ну так и с «Тремя мушкетерами» ведь происходило что-то подобное.
Для нас существеннее то, что сам Гаррос — а «Непереводимая игра слов» не про вымышленного Вадима Аплетаева, а про него — остался своим героем; героем без кавычек, не только в смысле «персонаж».
«Непереводимая игра слов» — пара дюжин очерков Гарроса-публициста за последние лет пять: полноводные, захватывающие, всегда хорошо выстроенные, неизменно остроумные; и хотя свои таланты по части воображения Гаррос последние годы предпочитает реализовывать не в прозе, а в сценариях, здесь есть именно литературные шедевры — с ритмом, с «музыкой»; как «Джетлаг».
Химически чистая ненависть к жлобам, сочившаяся из каждой строчки «Головоломки», с годами уступила место другому чувству. Вся книга пропитана тем же Sehnsucht, которое так хорошо ощущалось в прозе молодого Пелевина, — романтическим томлением, ностальгически-утопической меланхолией, происходящей от того, что разница между тем, «как должно быть», и тем, «как есть», трагически непреодолима; в этом смысле «моралист» и «мечтатель» доминирует в душе Гарроса над «экономистом», «сатириком» и «трезвым социальным аналитиком». Мечтатель — но не брюзга: видя, как душная эпоха либо радикализует до невменяемости, либо коррумпирует бунтарей, он не отворачивается к стене с книжкой, а идет искать — людей, обладающих а) иммунитетом против пошлости; б) способностью превращать недостатки политической атмосферы в достоинства, перемалывать обстоятельства работой. «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать», — цитирует Гаррос формулу Р.П.Уоррена.
Первейшая тема (и литературное наследство, которое он получил от условных Стругацких) писателя Гарроса — хороший человек, анархист от природы, в поганых, сбивающих с толку бессовестных обстоятельствах: бюрократия, культ насилия, господство «варварской поп-культуры», фейсбук-демократия, тотальная ирония, разочарование в идеалах, коррупция и проч. Словно персонаж сорокинского «Льда», рассказчик этой книги гоняется за «братьями Света», которые отличаются от обычных «мясных машин»; современниками — в диапазоне от Прилепина до Курентзиса и от Кантора до Урлашова, — которые не только «что-то чувствуют», но еще и сами добровольно заменяют государственную бюрократическую машину — своей, самодеятельной; придумывают свой способ существовать внутри «тяжелой и плотной материи», «энтропийной русской реальности».

Гаррос методично и даже, пожалуй, с некоторой одержимостью исследует, почему проект вестернизации (вариант: построения в Москве нового Иерусалима, «Лондона») потерпел в России крах или принял уродливые формы; какие уроки следует извлечь из этого; и доказывает ли этот крах наличие некой внутренней структурной закономерности — «судьбы», — или он всего лишь ошибка прошивки, которая будет заменена в следующей версии. «Не успевшие свалить глобальные русские стали пятой колонной, топчутся в фейсбуке, рубят шашкой муляж Путина и иногда оглашают окрестности воплем души: неужели Россия при нашей жизни так и не станет Европой? Я молчу и улыбаюсь. Теперь я знаю ответ. Шоссе Россия — Европа — это ведь такая двухполосная трасса со встречным движением. Любые договоры, реформы, смены режимов и новые курсы на ней не более чем маневры политических малолитражек. Увлекательно, много адреналина, только не стоит забывать, что здесь носятся многотонные фуры культурных стереотипов. Скорость, масса, инерция. Не становись на пути у высоких чувств, пел когда-то БГ».
Публицистику Гарроса следует читать, чтобы понять, как можно, оставаясь в рамках «интеллигентского дискурса» (то есть относясь с известным уважением к идолам свободы и демократии), не фетишизировать последние — и не демонстрировать читателю, что ты владеешь монополией на истину. Стандартные сборники интеллигентской публицистики выходят раз в неделю — однако большинство из них слишком легко описывается как очередная попытка автора продемонстрировать, что интеллигенция по-прежнему элита и по-прежнему «авангард», что только у нее есть монополия на «хороший вкус», позволяющий ей быть единственным судьей в вопросах такого рода, — и требовать за этот труд оплату сильно выше средней. Гаррос публицист иного рода; он не знает, но ищет, и эти поиски выглядят не как топтания вокруг банкомата, а как настоящие приключения; приключения хорошего рассказчика, гоняющегося за хорошей идеей.
Таких людей, как Гаррос, время от времени рождает отечественная культура; они остро чувствуют свою эпоху, сами являются ее маркерами — и всегда выламываются из эпохи, пере-живают ее. Условно говоря, в 1907-м Гаррос был бы кем-то вроде Чуковского, в 1917-м — Николая Суханова, в 1967-м — Ярослава Голованова. Пожалуй, если бы мы жили в идеальном мире, где книги воспринимались бы как заявки на занятие тех или иных общественных должностей, то с «Непереводимой игрой слов» Гаррос мог бы претендовать на звание самого министра культуры: кристально честный, энциклопедически образованный и эрудированный, благословленный замечательным слухом и вкусом к новому (вы, например, знаете, что именно Гаррос открыл писателя Н.Свечина?). Эпоха вот, правда, «негарросовская»: нарком продовольствия Цурюпа, который падал в обморок от голода, вызывает сейчас только иронический смешок; Летов, который хрипел про смерть, а затем сам умер, — недоуменное сочувствие: ну кто ж сейчас так делает, нельзя ж так буквально…
У Гарроса, что характерно, есть текст про Летова — и хороший текст; крупные фигуры нынешней «культурной среды» часто рекрутируются из слушателей Летова — но еще чаще эти слушатели — под давлением обстоятельств или просто в силу того, что все ведь можно воспринимать не всерьез, — превращаются в то, что Летов, надо полагать, ненавидел и презирал: в пошляков, филистеров, оппортунистов и жлобов, торгующих своей чертовой «иронией». Ну да; жизнь такая — тут в нужный момент улыбнулся, там подставил стул, сям — подхохотнул; все мы знаем, как дела делаются; не подмажешь — не поедешь.
Гаррос тоже, конечно, иронизирует — но все больше про себя, чем про других; и он обходится без того, чтобы привставать на цыпочки, закатывать брови и рисовать кавычки в воздухе. Он вообще редкий человек, который при желании в сорок лет может горланить «Границы ключ переломлен пополам» — и не выглядеть при этом ни жлобом, ни идиотом, ни постмодернистом; горько или не горько, что таких людей все меньше и меньше — это уж кому как; за всех расписываться не станем; но всем, пожалуй, приятно, что такие «крапивинские мальчики» все же еще есть.