Роман Томаса Пинчона «Bleeding Edge» (2013) выходит в «Эксмо» под необъяснимым названием «Край навылет». В дословном переводе он называется «Кровавое лезвие», что вполне обосновано способом убийства одного из героев, невезучего жулика по имени Лестер; в переносном смысле заглавная идиома отсылает к leading edge, то есть к переднему краю развития технологий. Bleading, согласно офисному каламбуру начала восьмидесятых, он становится, когда сулит непросчитанные риски или используется без должного контроля. Сгодился бы «Кровавый край», двусмысленность которого (вполне, впрочем, терпимая, ибо речь идет еще и о стране на грани большого террора) отчасти скрашивалась бы каркающей парономазией на «кра-кра»; но откуда прилетел вылет — остается только гадать.
Вместо разговора о романе Пинчона — не лучшем, быть может, но в любом случае заслуживающем анализа — есть риск начать разговор о переводчике, его личности, методе и предпочтениях. Я не доставлю ему этого удовольствия. Человек он обидчивый и после моего вполне невинного радиозамечания о том, что «Gravity Rainbow» («Радуга земного тяготения») мне понятней в оригинале, нежели в русском переводе, заметил в своем блоге, отвечая одному из критиков: «Зачем вам Пинчон? Читайте Дмитрия Быкова!» Совет опасный, тем более что ему могут и последовать.
Безусловно, переводить так — тяжкий грех перед автором, не слишком доступным даже для носителей языка. Можно, впрочем, придумать для такого переводческого метода и более высокую мотивировку: каждую фразу нужно перечитывать по нескольку раз, чтобы чтение медом не казалось. Между тем трудность текстов Пинчона сильно преувеличена. Пинчон не слишком доступен, но в оригинале по крайней мере внятен, и стиль его по большей части безупречен. Он не стремится искусственно переусложнять собственную прозу — сложно его мышление, а не язык.
Перевод «Края навылет» являет собой удивительную смесь ненужных буквализмов, необоснованно грубых жаргонизмов, неуместной патетики и феноменальной, нарочно-не-придумаешь-корявости, если уж подражать переводческим англицизмам; в таком стиле думал я написать всю рецензию. А че? Но ридер, и без того уж распреутомленный текстом, коий ему впендюрили за крутяк и ништяк, мучаясь головной-как-ее-мать-ее-болью после многонощной укурки, навряд вынесет сей трэшняк и стебалово.
Я решительно не понимаю, почему quickie надо переводить как «наскоряк», а shanghai — как «шанхаить». Не может быть, чтобы переводчик не знал смысла этого слова (втягивать, вовлекать). Каламбур психотерапевта Шона, одним знаком пробела превращающего ненавистный ему islam в I slam («Я отбрасываю», «Я шлепаю» или «Я критикую», это уж кому как нравится), так запросто и передан — превращаю, мол, ислам в и слам (думаю, «ослам» никому не показалось бы чрезмерной вольностью, да мало ли возможностей? Почему morph (превращаться, мутировать) надо переводить как «морфировать»?
Берем нормальный абзац:
«Well, as it turns out, no worries — Lucas and Justin in reality are smarter cookies than the Girl Scout type Maxine was imagining. Somewhere back in the Valley, among those orange groves casually replaced with industrial campuses, they came to a joint epiphany about California vis à vis New York — Vyrva thinks maybe more joint than epiphany — something to do with too much sunshine, self delusion, slack. Theyʼd heard this rumor that back east content was king, not just something to be stolen and developed into a movie script. They thought what they needed was a grim unforgiving workplace where the summer actually ended once in a while and discipline was a given daily condition. By the time they found out the truth, that the Alley was as much of a nut ward as the Valley, it was too late to go back».
Что ж, на самом деле Лукас и Джастин оказываются поумней герлскаутов, каких представляла себе Максин. Когда-то давно в Силиконовой долине, среди апельсиновых садов, походя заменяемых промышленными кварталами, — сравнив Калифорнию с Нью-Йорком, они пришли к наркотическому озарению — по мнению Вырвы, первое слово важнее второго — надо что-то делать с избытком солнечного света, самообмана и лени. До них дошел слух, что на восточном побережье всем правит идея — такая, какую не сопрешь и не превратишь в киносценарий. Они думали, что им нужна жесткая, строгая работа в краях, где лето имеет обыкновение заканчиваться, а дисциплина повседневна. Когда же они обнаружили, что работать в Домине ничем не лучше, чем в Долине (так можно приблизительно перевести каламбур насчет alley и valley, а впрочем, вариантов полно), — возвращаться было уже поздно.
Теперь смотрите, что из этого вполне внятного текста делает наш толмач:
«Ну, как выясняется, страху нет — на самом деле Лукас и Джастин плюшки сообразительней, чем герлскауты, которых Максин себе рисовала. Где-то еще в Долине, средь тех апельсиновых рощ, мимоходом замещенных технопарками, с ними случилось ша́ровое прозрение насчет Калифорнии супротив Нью-Йорка — как-то связанное с переизбытком солнца, самообманом, байбачеством. До них докатывался этот слух, что на Востоке всем рулит контент — не просто такое, что можно спереть и превратить в киносценарий. Они думали, что им не повредит мрачное, беспощадное рабочее место, где лето действительно иногда заканчивается, а дисциплина — заданное ежедневное состояние. Когда же они выяснили правду — Подол такой же дурдом, как и Издол, — возвращаться было уже поздно».
Разумеется, найдутся люди, которым второй вариант покажется ярче и, как они любят выражаться, «вкуснее», — вольному воля, спасенному рай. Эти примеры надерганы с первых пятидесяти (из 300) страниц романа; их могло быть гораздо больше, но, по-моему, все понятно. Справедливости ради заметим, что, чем сильнее глава, тем лучше перевод, словно сам транслятор не в силах противиться очарованию пинчоновского стиля: безоговорочно лучшие куски книги, заставляющие вспомнить о лучшем Пинчоне, — мне, например, напоминающие любимый роман «Against the Day» («На день погребения Моего»), — это 7-я глава, описание таинственной компьютерной игры на сайте DeepArcher (в переводе — ПодБытие, прошу любить и жаловать: смысл принесен в жертву созвучию. DeepArcher звучит как Departure, а ПодБытие — как Отбытие. По мне, если уж любой ценой сохранять этот pun, удачнее был бы РазЛучник).
Превосходна и глава 15, с плотным, натуралистическим и символичным описанием городской свалки в протоке Ван Кал (почему надо было обязательно называть его проранью — ума не приложу, но это, видимо, из тех же загадочных решений, что и Чёрчилл вместо Черчилля, и Дизней вместо Диснея, и Айзенхауэр вместо Эйзенхауэра). Столь же прихотлив выбор реалий для комментария: едва ли нужно разъяснять читателю, у которого в детстве была искусственная елка, что такое ПВХ, но трудно найти современного читателя, в особенности молодого, который помнит, кто такая миссис Гранди (мрачная пуританка из комедии Томаса Мортона «Пусть быстрее идет плуг», но кого это волнует?). Впрочем, хватит об этом, потому что «good mother, hereʼs metal more attractive».
Попробуем поговорить собственно о романе, воздерживаясь от спойлеров, — что, впрочем, и нетрудно, потому что сюжет с его параноидальными хитросплетениями весьма скоро утомляет читателя (и, кажется, писателя), и не за эту паутину мы любим Пинчона (допускаю, что некоторые — и за нее).
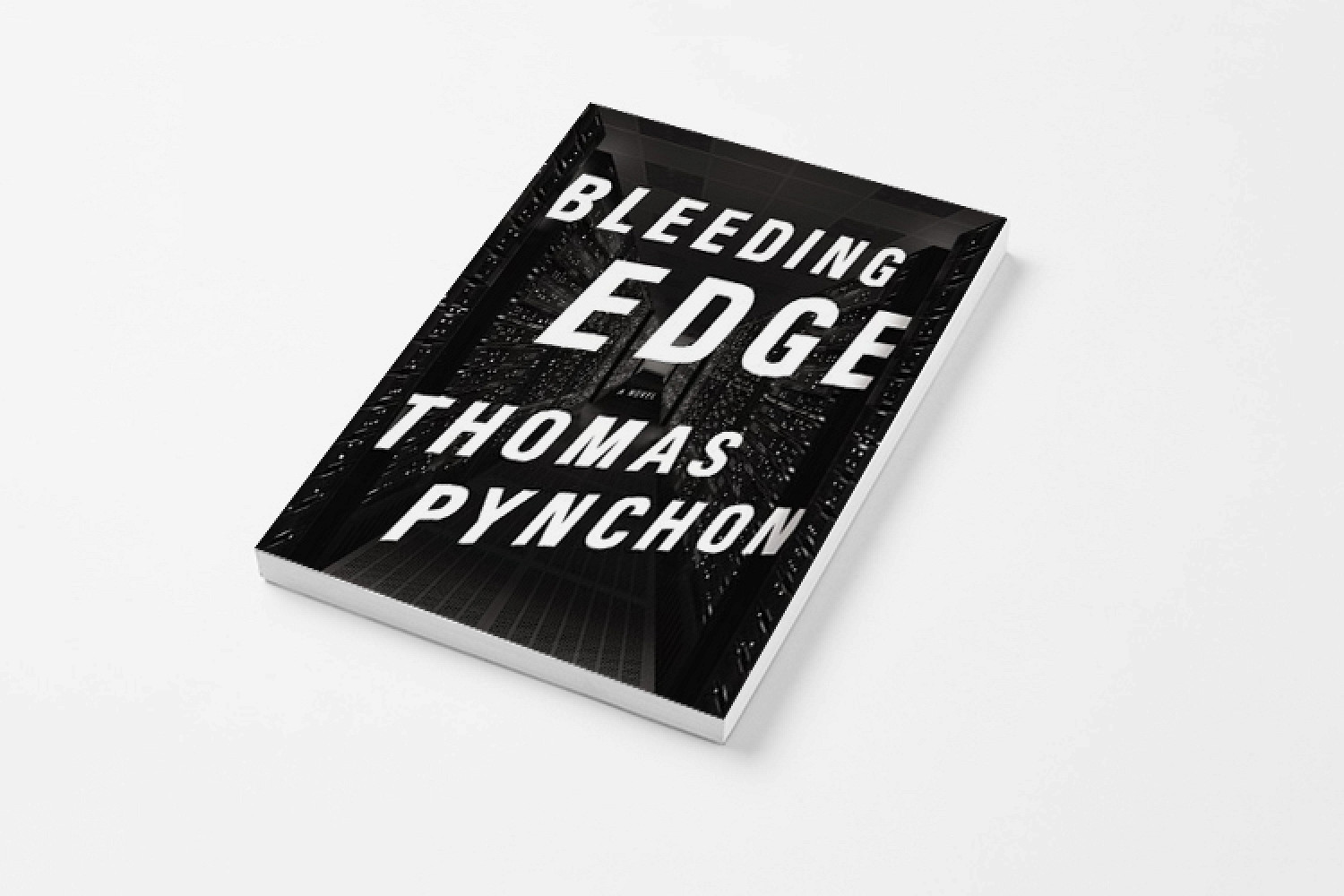
Пинчон хорош тем, что все его романы резко различаются по настроению и материалу. (Если «Edge» на что и похоже, то, вероятно, на «Vineland».) Каждая книга Пинчона — портрет Америки в определенную эпоху, слепок ее страхов и навязчивых идей. Всякий, кто жил в Штатах на рубеже тысячелетий, поразится точности деталей, словечек и особых примет, воспроизведенных в «Bleeding Edge». Герои все время обедают и завтракают в бесчисленных забегаловках, причем невкусно; все живут в ощущении страшного разогрева и неизбежного, скорого краха — и неважно, будет ли это террористическая атака 11 сентября или скорый финансовый кризис. Дело не в том, каким образом арабские террористы связаны с загадочным и могущественным Мрозом, а он — с русским десантником, большим любителем сибирского мороженого Игорем Дашковым.
В этих хитросплетениях черт ногу сломит, и не в них суть, тем более что — как часто случается у Пинчона — вполне рациональное действие вдруг оборачивается мрачной фантастикой: проникнув в потайную дверь в жилище Мроза, Максин вдруг видит стремительно бегущее прямо на нее слишком маленькое для человека, слишком большое для сторожевой собаки существо с белыми глазами, в странной — военной? — форме… и здесь рациональность повествования исчезает окончательно. Убитые воскресают (пусть под ником все в той же загадочной компьютерной игре — но мы и ожившего Лестера видим, если он нам не померещился). Расследование банального мошенничества в сфере новомодных технологий ведет непосредственно к исполнителям главного теракта в истории страны. Приступы ужаса, интеллектуальные озарения и брутальные соития случаются спонтанно и немотивированно. Пинчон по-прежнему точен и лаконичен в обрисовке характеров, ему хватает пяти строк, чтобы персонаж и обстановка его норы предстали как живые: «Eric lives in a fifth floor walk up studio in Loisaida, a doorless bathroom wedged in one corner and in another a microwave, coffeemaker, and miniature sink. Liquor store cartons full of personal effects are stacked around haphazardly, and most of the limited floor space is littered with unwashed laundry, Chinese take out containers and pizza boxes, empty Smirnoff Ice bottles, old copies of Heavy Metal, Maxim, and Anal Teen Nymphos Quarterly, womenʼs shoe catalogs, SDK discs, game controllers and cartridges for Wolfenstein, DOOM, and others. Paint peels from selected ceiling areas, and window treatments are basically street grime. Eric finds a cigarette butt a little longer than the others in a running shoe…» — поручусь, вы знали этого Эрика, бывали у него в мансарде и уставали от него за час, словно провели с ним сутки.
Суть фабулы — не в вечной паранойе Пинчона, у которого заговор всегда вырастает из подозрения, а катастрофа — из предчувствия. «Bleeding Edge» как раз и написан о том, что город — «чтобы оставаться самим собой» — должен непрерывно извергать отходы и нечистоты, и в какой-то момент их масса становится критической. Идея Пинчона еще и в том, что война и любая иная катастрофа приходят не только как возмездие, но и как напоминание о базовых ценностях. Люди категорически не желают о них помнить. В «Bleeding Edge» все живут в обстановке отложенной жизни, которая неизвестно когда начнется: работают не по специальности и не по призванию, спят с нелюбимыми, охотятся на случайных, идут на сделки с совестью, правительством, шпионами, начальством, любовниками — и все время ждут расплаты, почему и разговаривают как Редж Деспард, вечно предчувствующий ужасное и угнетенный этим предчувствием. Это мир сплошного пограничья, живущий в постоянном и явном соседстве инобытия (пусть ПодБытия, если вам так больше нравится). Не зря появляется совсем вроде бы посторонний эпизод с Borderline Personality Disorder Assosiation: это мир вот именно что на границе, на грани, сама Грань — виртуозно проведенный лейтмотив.
Катастрофа 11 сентября, отодвинутая в третью четверть романа (действие начинается ранней весной и заканчивается под Рождество 2001 года), готовится с самого начала — вот один герой сетует на талибан, вот другой, бродя по собственной конторе, случайно натыкается на тайное подразделение, полное вежливых и непроницаемых арабов, которых нельзя фотографировать, а вот по почте приходит таинственный диск с неведомым террористом, который учится сбивать самолеты… но дело-то не в исламе, не в талибане, не в чеченцах, а именно в том, что главное и страшное вытеснено в подсознание, за грань восприятия. Но отодвинуть жизнь нельзя — она явится и напомнит о себе; да, катастрофой, если больше нечем. Главное состояние героев и повествователя — prewar, что почему-то переводится как «довоенное», хотя в действительности оно предвоенное (разница примерно такая же, как между «нежелательным» — unwelcome — и «нежеланным», как оно выглядит в русском тексте). Если учесть, что мир за последние 15 лет еще глубже вполз в дикость, нельзя не воздать должное пинчоновской проницательности; хотя, впрочем, все это и в девяностые было не бином.
И еще одно: это книга грустная. Они все у Пинчона не слишком веселые, хотя временами смешные; но эта глубокая меланхолия сродни той, которую испытывают иногда очень умные, сугубо рациональные люди, понимающие все про всех, но не способные избавиться от обычной человеческой жалости, от глубокого, томительного одиночества. Таков, скажем, человек-машина Камилл, несколько раз переживший гибель мира, у Стругацких в «Далекой Радуге» (любопытно, читал ли ее автор «Радуги тяготения»); таков Сисс в «Расследовании» Лема, которое Пинчон уж точно читал (а иногда кажется, что и писал; вообще из европейцев Лем похож на него больше всех, но вкус у него строже, на то и Европа). Это вот то самое, что испытывали Chums of Chance в «Against the Day», путешествуя во времени; это Антибытие и Антивещество из ефремовского «Часа Быка», из главы все про то же — «На краю бездны»: «Справа на экраны начала наползать тьма. Это не был ночной мрак Земли, наполненный воздухом, запахами и звуками жизни. И не мрак космического пространства, чернота которого всегда подразумевает необъятный простор. На звездолет ползло нечто не поддающееся чувствам и разуму, не наделенное ни одним из привычных человеку свойств, не поддающееся даже абстрактному определению. Это было не вещество и не пространство, не пустота и не облако. Нечто такое, в чем все ощущения человека одновременно тонули и упирались, вызывая глубочайший ужас». Интересно, читал он? Думаю, да — иначе откуда бы эти дословные совпадения? Это тоска человеческого существа, попавшего в нечеловеческие обстоятельства — не то чтобы ужасные, но просто слишком пестрые и сложные; тоска человека, угодившего в сингулярность, в эпоху, когда события начинают развиваться неконтролируемо, независимо от человечества и по совершенно нечеловеческим законам. Эту сингулярность — непредсказуемое и алогичное развитие фабулы, опровержение всех догадок, кроме размытых дурных предчувствий, и ощущение жалкости всего человеческого, любви там к детям, родителям, кошкам, — Пинчон и пытается имитировать, и «Bleeding Edge» подходит к осуществлению этой задачи ближе всего. На эту же атмосферу безысходной и молчаливой грусти работают все песенные и поэтические фрагменты в романе, переведенные, кстати, очень хорошо, — может, именно поэзия и была истинным предназначением переводчика?
Читать «Bleeding Edge» и в оригинале не пряник, а в переводе (особенно при беспрерывных сравнениях с оригиналом, без которых вообще не разберешься, что хотел сказать автор) — задача поистине титаническая, головоломная до мигрени. Стоит ли результат затраченных усилий и нельзя ли было вызвать то послевкусие, которого добивался Пинчон, более экономными средствами? Но, во-первых, экономия редко бывает признаком большого таланта — разве что мы имеем дело с аскетом и минималистом, человеком азиатской скрытности или добычинского темперамента; а во-вторых, без этой избыточности, вероятно, ощущение нарастающей и бессмысленной сложности мира не было бы столь давящим. Если для читателя преодоление инерции чтения, торможение на каждой фразе и метания от оригинала к переводу важнее эстетического удовольствия — эта книга для него. Лично я не встречал такого читателя, но каких чудес не бывает на свете! Вообще же, то самое послевкусие великолепно суммируется одним песенным отрывком:
Я отправлю, певи-цу-пастушку,
С оркестром, и в шляпе к те-бе,
Чтоб ты знал, что я здесь и готова,
Бросить вызов с тобой судьбе —
Но ты же
Залипнешь на ней,
Станешь думать о ней день и ночь,
Та же старая мода,
и жалкая кода, так
что не стоит воду толочь —
И, не, надо, ко, мне
Лезть,
Как мне, себя есть,
Мне, не, нужен
Нож и — вилка, бога ради,
слушать
как гудят… скучно поезда
Ночью без тебя,
В штате Нью-Йорк, в Среднеграде.
Сидючи здесь, с длинногорлой,
мультики глядя неделю,
а тени ползут очень долгим рассказом
обо всем, чего мы не успели…
Мы трейлер свой не заземлили,
и стены
лупили нас током,
пока средь зимы не бросили мы
Вообще что-то чувствовать толком.
P. S. Автор благодарит Алексея Евсеева за бесценное содействие.
