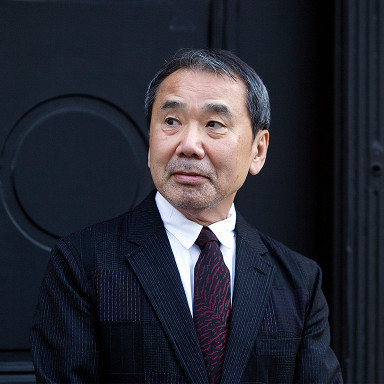— В «Википедии» написано, что вы родились в Замбии. Как это получилось?
— Родители работали там по совместной с ЮНЕСКО советской программе помощи развивающимся странам. Преподавали на английском в школе физику, математику и биологию. 50-градусная жара, змеи, крокодилы, гигантские насекомые — и бананы в саду около дома, совершенно очаровательные местные дети, иностранные коллеги: всего этого я не помню сам, а знаю по рассказам, потому что вернулся в Москву совсем еще маленьким, — тот случай, когда память действительно общая.
— А что из детства вы помните сами?
— Я увлекался кактусами и, как ни странно, религией: лет в 12–13 прочел Ницше, Даниила Андреева, разные вещи в журнале «Наука и религия». И перечитываю их до сих пор: как вера вечна, так и эти авторы — вечная альтернатива иногда слишком жесткой и пагубной религии. Еще коллекционированием — от камней до марок с космосом. Это было, видимо, такое советское, наносное отчасти, поэтому оно смылось, ушло со временем. А вот занятия в шахматном кружке пришлось бросить — и об этом я жалею. Шахматы я не только очень люблю, как и го, и японские шахматы сеги, но они и не ушли окончательно, иногда думаются, снятся. Например, недавно я за вечер написал рассказ про шахматы. Вообще, я долго думал, что ребенок во мне умер, но каким‑то вещам я остался верен. Например, даче: это пандемическое лето на удаленке я прожил на даче. И это было самое мое счастливое лето, начиная с детства.
— Откуда у вас появился интерес к японскому и английскому языкам?
— Японский пришел так же двухвекторно, как и увлечения детства. Во-первых, в те годы был общий интерес к Японии, во-вторых, я читал японскую литературу. Прочел двухтомник Мисимы в переводе Чхартишвили — и это почти все решило; за ним подтянулись Кавабата, Акутагава и другие. Поэтому я пошел поступать в ИСААИнститут стран Азии и Африки МГУ на филологическое отделение.
А английский я начал учить гораздо раньше. В 67-й гимназии на занятиях английским мы читали в оригинале Шекспира и Китса, Элиота и даже Джойса, а еще был, конечно, рок — с «текста́ми» на английском. Да и на японский берут непременно с английским: в нем много заимствованной и усвоенной английской лексики. Сейчас часто перевожу на работе с английского на японский и обратно и люблю английский нежно. Японскому я остался верен надолго: большинство моих однокурсников поменяли сферы деятельности и вздохнули с облегчением — их можно понять, потому что с японцами иногда непросто работать. Мне же, наоборот, нравится — хотя бы их четкость и пунктуальность.
— Чем вам оказался близок Мисима, об эстетике которого был ваш диплом, а также магистерская и кандидатская диссертации?
— Кроме богатейшего барочного стиля и очень своеобразных, своенравных даже идей, Мисима был один из немногих честных — тех, кто дошел до конца в буквальном смысле. Сколько громких идей, красивых лозунгов мы знаем в искусстве в прошлом веке: счет на сотни, тысячи. Но сколькие готовы были пожертвовать своим мозгом, как Ницше и Арто, своим здоровьем и жизнью, как Симона Вейль, Пазолини или венские акционисты? Его публичное сэппуку было необычно и шокирующе даже для японцев, и оно было не жестом и не спектаклем. Вернее это описать как любовь, даже секс со смертью и трансцендентным, которыми он был очарован.
— Чем отличались ваши диссертации и дипломная работа?
— В дипломе я сравнивал Мисиму и Кавабату — Кавабата же был его учителем, Мисима многое взял у него, но и во многом отошел, что едва ли не интереснее. Например, Кавабате была ближе так называемая женская линия в японской культуре, Мисиме же — мужская. Настольной книгой Кавабаты была «Повесть о Гэндзи», Мисима же зачитывался «Хагакурэ», комментариями к этосу самураев. В кандидатской я предложил целую линию эстетического наследия: прослеживал те эстетические концепты, что Мисима взял у Томаса Манна, своего любимого писателя, и что потом уже Лимонов апроприировал у Мисимы, сделав частью своей художественной системы. Тема молодости, физически совершенных юношей, демонической подавляющей красоты, прекрасной смерти, самоубийства — очень интересно, как с этим работают столь разные и столь иногда близкие авторы. Часть диссертации я впоследствии доработал до книги «Бунт красоты. Эстетика Юкио Мисимы и Эдуарда Лимонова», которая вышла в 2009 году.

— Вы учились в университете в Киото. Как вы туда попали?
— В частный буддийский университет Рюкоку я попал на стажировку от МГУ. Там была очень интересная среда: японцы в основном были детьми монахов, а иностранцы — теми немного безумными людьми, кто приехал в Японию изучать буддизм. Киото, кстати, изменился с 1999 года почти так же радикально, как меняется Москва. Тогда это был тихий город тысячи храмов. Сейчас, с развитием туризма, особенно китайского, на узких улочках чаще услышишь китайскую речь, чем киотосский — не могу выговорить «киотский» — диалект, а вместо майко, традиционных гейш Киото, ходят опять же китайские туристы в купленных тут же юката, такой вот туристический косплей. Относительно рядом с Киото — наше общежитие находилось между двумя городами — Осака, ультрасовременный город бывших купцов. Небоскребы там не стали с тех пор ниже, но в материковом Китае, Гонконге и Сингапуре небоскребы сейчас и повыше будут.
— Когда вы жили в Японии, что вас больше всего удивляло, например, в быту? Как складывалось общение с японцами?
— После года жизни там у меня остались друзья из самых разных стран мира, но только не из Японии. Категории дружбы, доверия, открытости там другие — и это то, к чему идет и остальной цивилизованный мир. Быт меня не шокировал — он удивлял. Вот в Африке, где я недавно побывал, он действительно шокирует. Или в Индии, где в Калькутте, на центральной улице под окнами дорогого отеля люди в 6 утра моются, рядом нищие, чьи‑то дети, святые, в Ганге плавает весь мусор и даже трупы, откуда тут же берет воду уличный торговец, рядом с которым плетут букет из цветов для сидящего тут же на дороге йогина… При этом вегетарианство, святость и замечательные люди.
Про Японию сейчас почему‑то вспомнилась история про сервис. Тогда мы звонили из Японии домой по карточкам: стираешь защитный слой, там номер, вводишь его в мобильный и звонишь в Россию. Один раз я купил карточки в магазине — уже стертые. Случай неслыханный. Пришел обратно, мне, безусловно, поверили, но и проверили. Звонивший куда‑то по этому поводу клерк по-японски говорил: «Пришел господин иностранец… такая-то проблема…» До этого мы общались на японском — но так как ты иностранец, по определению не можешь знать язык, этот факт в сознании клерка не уложился. Я был зол, поэтому встрял — «я говорящий по-японски иностранец». Клерк продолжил — «говорящий по-японски господин иностранец». Выяснилось, что ошибка была их. Обошлось без сэппуку, но, записав мой адрес, клерк через пару часов сам пришел и принес новые карточки в общежитие. Закончив с извинениями и деловыми вопросами, он выключил рабочий режим и перешел на человеческий: японцы же очень любопытны, как дети, когда это допустимо этикетом. И мы мило с ним поболтали о том, откуда я приехал, про «пиросики» и «борусити» (борщ).
— Куда вы пошли работать с таким багажом?
— Работать, то есть подрабатывать, я начал в магистратуре: переводил переговоры, был гидом, но мне это не понравилось — не мое. Если ты работаешь офисно, то за небольшими исключениями остаются свободными вечера и выходные, фриланс же имеет тенденцию съедать все твое время без остатка. Затем был Японский центр — организация, занимавшаяся развитием торгово-экономических связей между нашими странами. Мне повезло: после института я попал под руководство Юкио Асадзумы, очень известного человека в российско-японских отношениях, с потрясающим опытом и знаниями — иногда мне казалось, что русский, русских и Россию он знает и любит больше, чем мы сами.
Потом я недолго проработал в TBS, корпункте японского телевидения, а затем в межправительственном International Science and Technology Center, таком локальном варианте МАГАТЭ для России и стран СНГ. Он занимался совместными научными проектами между странами-участницами в области ядерной энергетики, био- и нанотехнологий, медицины, химии, энергетики. Совершенно уникальная организация, где рядом работали бывшие физики-ядерщики, доктора наук и дипломаты, а бывших, как известно, не бывает. Говорю об этих организациях в прошедшем времени, потому что из‑за политических вещей они закрылись, переехали или перепрофилировались, увы. Сейчас я работаю в сфере российско-японской бизнес-дипломатии в рамках Российско-японского делового совета и занимаюсь японским направлением в «Р-Фарме». Если суммировать, то получается, что я всю жизнь занимаюсь не полностью японскими вещами, а вещами российско-японскими, на стыке, таким моментом сходств, взаимопроникновений.
— С различиями между Россией и Японией все более или менее ясно. А есть ли что‑то общее между этими двумя культурами?
— Общие моменты как раз оказываются более скрытыми. Например, мне кажется, что класс интеллигенции есть и в России, и в Японии. Есть не только дикие любители аниме и манги с Мураками у нас, но и японцы, глубоко погруженные в русскую культуру. У меня есть знакомый, который после выхода на пенсию со скучной торговой должности начал учить русский, чтобы прочесть Чехова в оригинале. Также я знаю молодого японского фотографа, с которым по Москве просто так не пройти, — его везде окликают знакомые, он объездил десятки маленьких русских городков, цитирует в разговоре песни Летова, виртуозно матерится по-русски, — а хорошо ругаться — это знак мастерского владения языком.
Есть и более глобальный факт: как православный исихазм очень близок к дзэнским практикам, так и традиционная российская и японская культура в пределе во многом близки. Акторы там точно очень похожи — прекрасные энтузиасты, служащие иррациональным, непрактичным по нынешним меркам вещам. На выходе тоже много похожего: безумно популярный в Японии Чебурашка похож на странных животных-существ Миядзаки, герои [Осаму] Дадзая и [Харуки] Мураками — на лишних людей; самая известная вещь Дадзая «Заходящее солнце» — ремейк «Вишневого сада» Чехова. И сложности одни и те же: и японцы, и русские любят скорее ту Японию/Россию, «которую мы потеряли», которой больше нет. Отсюда разочарования — какой‑нибудь, условно, любитель джапанойза поедет в Японию и узнает, что 99 процентов там слушают J-Pop и ужасных певичек-айдору.
Нужно больше всматриваться в настоящее наших стран. И, кстати, особенно внимательно смотреть на Японию должны мы, потому что Япония, как ни банально это звучит, это наше будущее. Даже не в экономическом или технологическом плане, а в антропологическом. Молодежь, корпорациям предпочитающая байто, фриланс; хикикомори, люди, годами не выходящие из квартиры; старение населения; асексуалы; дзюхацу, люди, из‑за каких‑то проблем или желания начать все заново исчезающие, с помощью специальных фирм полностью стирающие следы собственно существования, — это то, что скоро войдет в наш быт. И даже быстрее, чем мы могли думать, — из‑за локдауна все мы стали немного хикикомори.
— В вашей последней книге «Ижицы на сюртуке из снов» собраны ваши эссе о литературе, написанные за последние пять лет, интервью, которые вы делали с другими людьми. Вы также пишете прозу, травелоги, эссе о кино и музыке. Как все это сочетается?
— Я пишу то, что мне интересно в данный момент. Придет проза — буду писать ее. А в целом у меня все на грани: критика слишком свободная, а для прозы одна моя коллега придумала термин «микроэссеистика». Рецензии всегда были моим любимым разделом в журналах, а то, что любишь, пытаешься сделать сам.
Но в моем советском детстве предисловия к книгам были тоже советские, не было ни Беньямина, ни Набокова, ни Гольдштейна. Из этих имен уже понятно, наверное, что меня интересуют пограничные жанры и столкновения, — прозы и критики, фикшен и нон-фикшен. Даже мои любимые философы — Чоран и Юнгер — ведь тоже по разным ведомствам. Слишком свободные, фристайл для философов, слишком сложные и изысканные для традиционной прозы. А проза и критика пишутся разными полушариями, разными состояниями, даже в разное время суток. Но переключать, как скорости, полушария я люблю, это как все время менять занятия, проекты и стили, чтобы убежать от монотонности.
— Поэтому тексты, собранные в книге, такие разнообразные?
— Мне нравится идея сложного единства в качестве композиционного принципа. И очень понравилось бы, если бы книгу воспринимали как современную музыку. Ведь новая классика, свободная импровизация — крайне витальные, интересные сейчас направления, наравне с фри-джазом, — это очень сложная, хаотичная на первый взгляд музыка, «сумбур вместо музыки». Она будто бы сопротивляется интерпретации и восприятию, то есть требует определенной работы понимания, соучастия, сотворчества. Только при обоюдном усилии может родиться смысл — так, сам по себе, он не живет.
— Вы сказали, что из‑за локдауна все мы стали немного хикикомори. Пандемия заставила вас лично по-другому взглянуть на мир?
— А нельзя же не взглянуть иначе. Мы же и сейчас смотрим на мир не из окон офисов или шторки самолетов, а из дома или поправляя на лице маску. Во всяком случае, об этом человечество еще будет думать в сотнях книг, аналитических отчетов, бюджетах и так далее. Важнее — что должны изменить мы. Ведь, кажется, пришло время наконец-то сообщить технологической, экономической цивилизационной модели гуманитарную составляющую. Грубый пример — вирус, если верить официальной версии, возник в лаборатории, где на мышах испытывали новое лекарство. Но если бы идеи о гуманном отношении к животным утвердились в мировом сообществе, то эту самую мышь бы никто не мучил и пандемии не было, не было бы этой вынужденной мести природы человеку за непотребное, безответственное ее использование.