— Чувствуете ли вы, что мир, за который вы боролись, наступил? Шарджская биеннале стала не менее авторитетной, чем в Венеции. Мир искусства признает, что есть много центров. Карьера художников как будто бы не зависит от их цвета кожи.
— Да, он стал лучше, чем был много лет назад. Но в то же самое время многие вещи не стали лучше. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Что случилось с Россией — после развала Советского Союза. Прежде Россия боролась с империализмом, а что теперь? Так что да, с одной стороны, все намного лучше, но с другой стороны, с точки зрения политики все сильно ухудшилось.
— Многие неевропейские режиссеры — Карвай, Ким Ки Дук и другие — начинают с фильмов про конфликты и жестокость, а к старости смягчаются и снимают фильмы про любовь. С художниками дело обстоит иначе: те, кто выбирает себе дорогу активизма, идут по ней до самой старости. Как вы думаете, почему так?
— Даже не знаю, непростой вопрос. В кино, наверное, существует разница между твоей готовностью идти на компромисс и политической позицией. Мало кто изначально считает, что расизм и империализм — это хорошо. Но система просит тебя согласиться с этим, и если ты соглашаешься, то она тебя отблагодарит — примет и превознесет. Тогда эти деятели культуры говорят, что они часть этой системы и этой культуры.
— А вы сами себя как чувствуете? Как вы изменились за эти годы? Чувствуете ли современным классиком?
— Да ну что вы, какой из меня маэстро. Я самый обычный человек. У меня такое же воображение, как у всех, а у всех — такие же возможности делать то, что делал я. Но поскольку система подавляет людей, то они не то чтобы в полной мере воплощают то, что есть у них в воображении. Система велит людям следовать системе, и они это делают. Вот и все.
— Вы всю жизнь боролись с европоцентризмом и считали, что единая линейная история искусства, написанная белыми для белых, просто немыслима. Но как воплотить ваши идеи в реальности, как вы себе представляете идеальный музей?
— Идеальный музей — это порождение империализма и не очень хорошая вещь. Понимаете? Суть европейского империализма (Рашид имеет в виду колониальный подход к музейному делу. — Прим. ред.) состояла в том, чтобы собирать вещи со всего мира и делать их своей собственностью. Если люди хотели видеть разные работы, они могли приехать в Лондон, Париж, может быть, Москву. Это империализм. Но у империализма было много аспектов — и один из них был либеральным, музей был нужен прежде всего для того, чтобы давать знания людям. Но распространение знания нужно контролировать, а музей был одним из средств этого контроля. Мы верим, что то, что показано в музее, действительно случилось в истории. А то, что было вынесено за пределы музеев, было вынесено за пределы истории.

— Что же с этим делать?
— Открыть музей городу и приглашать людей, у которых есть своя точка зрения. Которые хотят показывать все так, как они видят, — а не так, как музей готов это показывать. И тогда вы измените эту империалистическую систему.
— Меня восхитил момент, когда вы сожгли велосипедное колесо и поняли, что это искусство. Ваши родители вас не понимали, вы им наврали, что едете в Париж учиться на архитектора, — но сами были твердо уверены, что станете художником. Вы можете вообще объяснить, что это было такое? Вы чувствовали, что это судьба?
— Не знаю. Не уверен [даже сейчас], что я был прав. Не знаю. Я чувствовал, что то, что я делаю, — это путь, которому я должен следовать. Когда я сжег велосипедное колесо, я не был уверен, что делал что‑то важное. Мне просто казалось, что это нужно делать. Я даже не размышлял, правильно это или нет, я просто пошел и сделал это.
— А еще мне ужасно интересно, как в разных местах мира одни и те же вещи происходят независимо. Вы не знали об американском минимализме до 1968 года, когда ваш друг вам показал Cола Левитта, но сами при этом создавали работы в этом духе. Как думаете, как это может случиться?
— Я не делал минималистического искусства. Меня сперва, еще в Пакистане, интересовала симметрия. И когда я приехал в Лондон, то стал еще более заинтересован в геометрии. Геометрия вообще центральная идея для всего европейского искусства. Даже у [Владимира] Татлина геометрия используется асимметрично, а не симметрично. А что я сделал — это стал использовать геометрию симметрично. И я даже не размышлял о том, что занимаюсь минималистическим искусством. Только после того, как я познакомился с минимализмом, люди стали говорить, что то, что я делаю, — это минимализм.
— Почему симметрия так важна для вас?
— Симметрия очень важна для всего, что я делаю. Общество сейчас организовано асимметрично. В нем есть иерархия и разные уровни. Очень бедные внизу — потом средний класс — потом богатые и супербогатые. Это какая‑то пирамида. А мне кажется, что нужно изменить эту структуру, чтобы она стала более симметричной.
— Как вы думаете, что такое красота? Симметрия или асимметрия?
— И то и другое. Посмотрите на жизнь — в ней есть и симметрия, и асимметрия.

— Во всех текстах написано, что ваша знаковая структура «От нуля до бесконечности» явилась вам во сне. Сны вообще важны для вас?
— Да, конечно. Я спал днем — еще с того времени, как был ребенком. Я был очень одиноким ребенком. Часто я сидел один и думал. Гулял в песчаных дюнах, уходил подальше от города и возвращался домой вечером ужасно грязный. Мама так меня ругала! А еще я отправлялся на побережье моря во время отлива и изучал все, что раньше пряталось под море. Вот как я проводил свое детство — даже не ходил в школу, пока мне не исполнилось десять лет.
— Я могу вас спросить, если вас это не оскорбит, вы верующий человек?
— Нет, [не верующий].
— Не расскажете про Лондон шестидесятых? Из того, что можно найти в фильмах и книгах, кажется, что это был совершенно безумный и прекрасный город.
— Да — но только с одной стороны. С другой стороны, было много грязи, и несправедливости было тоже много.
— Вам не было страшно сотрудничать с «черными пантерами»? Насколько я понимаю, это все же достаточно криминальная организация.
— Нет, конечно. Лондонская группировка сильно отличалась от американской — это была отдельная организация. У нас было наследие империи. А у Америки было наследие черного рабства. И из‑за этого наследия банды в разных странах вели себя по-разному. «Черные пантеры» в Лондоне выступали против расизма и империализма, и мы на базовом уровне поддерживали борьбу черных людей за свои права — для них, например, в то время не было достойного жилья.
— Когда все галереи отказались вас выставлять в шестидесятых — почему вы не сдались? Что вообще в вас вселяло уверенность в том, что вы выбрали правильный путь, что именно вы должны толкать эту огромную стену?
— Иногда я сомневался, конечно. Когда меня меньше выставляли, я [обращал свои силы] на то, чтобы писать много текстов. Но я продолжал гнуть свою линию — для меня просто не было другого варианта.
— Как вы думаете, что сильнее может изменить мир: образ, визуальное произведение искусства — или текст?
— Оба нужны. Но по-разному. Образы были важны для неграмотных людей, в католицизме даже церковь признавала значение картин, которые должны были рассказывать истории о Христе, о Библии. И картины играли огромную роль в христианстве. А тексты важны для образованных людей, которые могут читать и сами составлять мнение.
— Вы думаете картинками или текстами?
— Я думаю словами — они более материальны. А в своих работах я выстраиваю образы в последовательность образов. Но на самом деле с текстом я делаю то же самое. Я борюсь, используя слова, а в визуальном искусстве мы боремся, используя изображения. На самом деле отдельное изображение ничего не стоит. Важна последовательность.
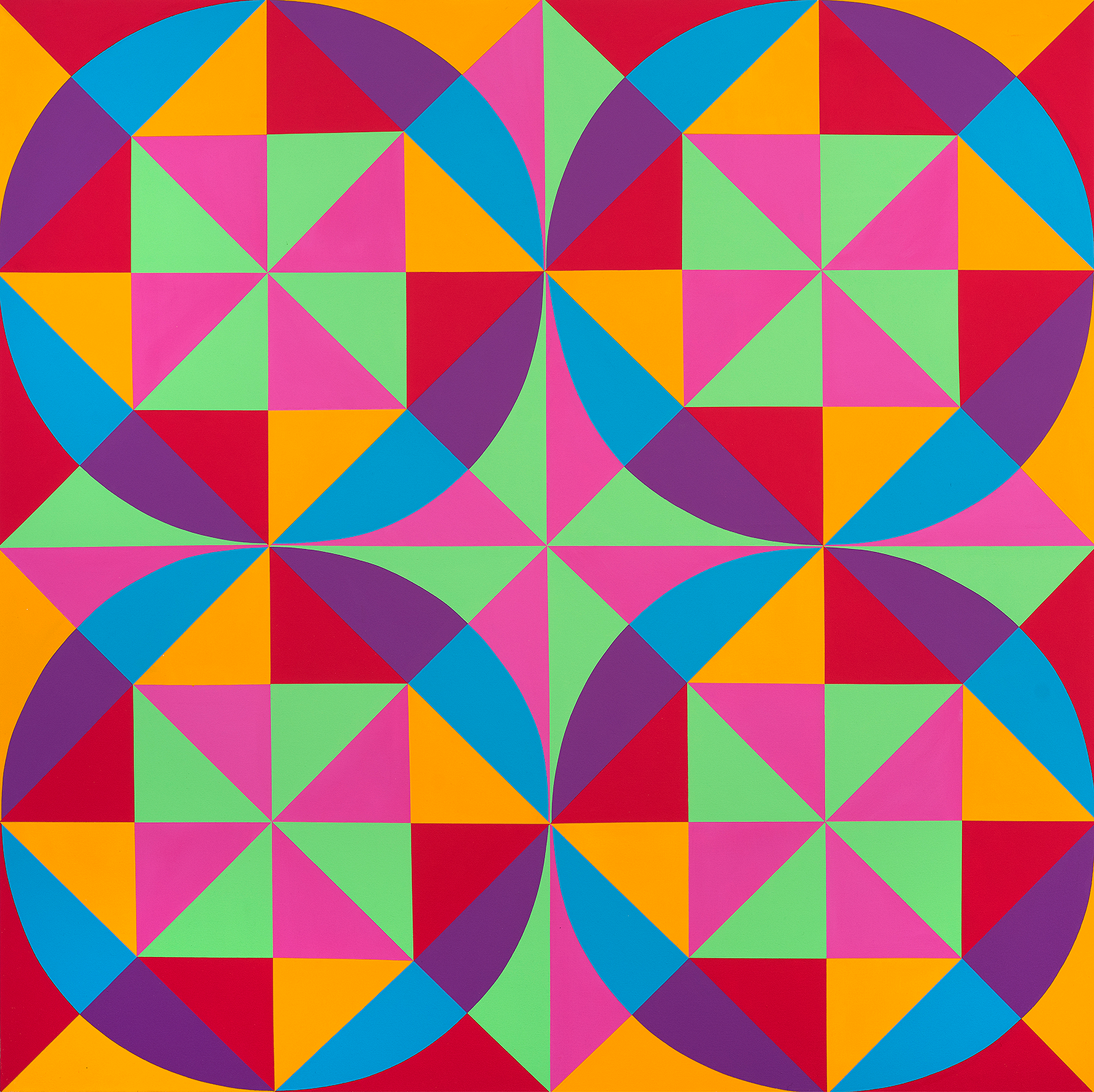
— А еще мне показалась очень интересным, что все смотрели на ваши работы как на работы не модерниста, но мусульманского скульптора. Как к издателю критических журналов у меня к вам вот какой вопрос: как нам правильно смотреть на произведения искусства, как их оценивать, в какой степени учитывать происхождение художника?
— Я думаю, что вам нужно задать этот вопрос критикам.
— Но ведь вы редактировали критиков в своих журналах (Рашид Араин основал влиятельный журнал «Третий текст» о художниках неевропейского происхождения. — Прим. ред.). Так что и вы можете ответить, как мне кажется.
— У этого вопроса есть много аспектов. Давайте я приведу в пример мое геометрическое искусство. Западному критику и историку будет трудно понять его полностью — потому что им нужно будет вписать его в историю изображений в искусстве. Они думают исторически, думают не о геометрии, но об истории картин. Есть проблема в том, как смотреть на геометрию без контекста истории изображений. Как преодолеть это препятствие? Я не знаю, как историк искусства может это сделать. Потому что сейчас у нас есть история изображений, написанная западными историками, — и западные историки следуют ей, попадая в Азию, Африку и так далее. Нам надо все переосмыслить и в том числе подумать о месте геометрии в истории искусства.
— Вам не кажется, что мы живем в довольно скучное время, где нет никаких манифестов и больших течений?
— Потому что искусство захватил рынок. Мы строим суждения, опираясь на то, что происходит на рынке.
— Как вы видите будущее минималистического искусства?
— Минимализм давно закончился. О будущем его я ничего не знаю. А у геометрии, да, есть будущее. Симметрия и геометрия могут быть использованы, чтобы заново переосмыслить общество — и лишить его иерархии.
— Все суперхудожники вроде Аниша Капура сейчас — это огромные фабрики, где произведения искусства создают десятки их ассистентов. А сколько человек работает на вас?
— Не очень много — всего два или три.
— А как обычно строится ваш день? что вы едите на завтрак?
— Обычно я просыпаюсь в восемь утра. Из‑за моего состояния здоровья я передвигаюсь медленно. Мой завтрак — это овсянка с фруктами. Потом я привожу себя в порядок, и вот уже 11 часов, за мной приезжает машина и отвозит меня в студию.
— Если бы вы что‑то могли изменить в жизни, что бы это было?
— Общество в целом.

