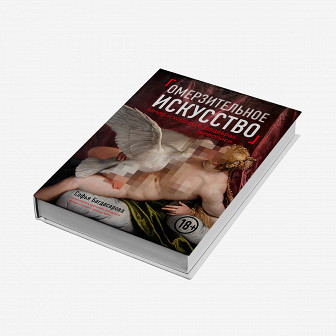Что вызывает ностальгию у читателей паблика «Она развалилась»
Бузев: «[В паблике «Она развалилась»] популярен самый неказистый контент — то, что вызывает ностальгию. Причем ностальгию бытовую, неполитическую. Вкладыши от жвачек Turbo, например. В моем детстве они стоили целое состояние. У меня отец служил в Афганистане, он нам присылал жвачки, и я был уважаемым человеком во дворе.
У нас в основном подписчикам 35–40 лет — это люди, которые тогда только вступали в жизнь. Хорошо заходит то, что привязано к новостной повестке. Например, умер кто-то — мы рассказываем, что он делал в девяностые. Ну и ньюсджекинг: это когда какое-то текущее политическое или общественно-культурное событие подвязывается к аналогии в девяностых годах. Это всегда очень хорошо работает: очередной вывод войск из Сирии — вывод войск из Афганистана.
Вообще, любой паблик — это своего рода субкультура. Особенным явлением субкультуры «Она развалилась» является Ветлицкая. Дело в том, что основатели паблика родом из Магадана, а у Ветлицкой есть песня «Магадан», и так получилось, что Ветлицкая стала маскотом сообщества. Ветлицкая, Дудаев, Басаев. У нас человек, который этим занимается, с Кавказа сам — и он, когда пишет о чеченцах, всегда использует термин «ополченцы», и это вызывает очень бурную реакцию. Хотя этот термин в том числе использовался в ельцинской прессе: «сепаратисты-ополченцы».

С каких сторон можно посмотреть на жизнь в девяностых
Немзер: «Мы делали этот проект вчетвером: Катерина Беленкина, Татьяна Трофимова, Илья Венявкин и я. И, начиная его, мы разговаривали со многими людьми, которые оценивали девяностые очень по-разному, но все произносили слово «свобода». Они его могли произносить с ненавистью, а могли с восторгом, но это была единственная точка согласия, которая ни у кого не вызывала вопросов.
Мы сделали в нашем виртуальном музее четыре зала, которые назывались «Свобода слова», «Свобода быта», «Свобода дела» и «Свобода выбора». Так получилась первая часть, которая публиковалась на «Кольте» в 2014 году.
А потом Илья Венявкин сказал, что вообще-то раскол девяностых иногда происходил внутри семьи. Кому-то девяностые предоставляли невероятные возможности, а для кого-то они же оказывались полным крахом. И я вспомнила одну семью, там была ровно такая история. Отец лежит на диване не просто потому, что у него закончилась работа в геологическом институте и ему есть стало нечего. Он вообще-то попробовал уйти в бизнес — и у него получилось. Но он хотел делать свое дело и быть геологом.
А у сына, наоборот, все получилось очень хорошо. Он не пошел по накатанной советской дорожке — армия, вуз, НИИ, — он начал делать бизнес, страшно преуспел.
Тут не в том дело, что отцы не смогли, а дети смогли, а в том, кто как на эти перемены отреагировал. И так родилась вторая часть проекта, которая была опубликована на «Снобе», — 10 интервью, которые оформлены как монологи, 10 рассказов людей, чья жизнь радикально поменялась в девяностые и из-за девяностых. В силу каких-то социальных или экономических, или политических перемен — и ничего подобного с этими людьми не могло бы произойти, если бы не девяностые.
Ну а третьим этапом проекта стала книга, вышедшая в «НЛО». Какие-то материалы в нее не могли войти по техническим причинам — как, например, тесты и игры. Письменные материалы, наоборот, были существенно расширены. Но зальная структура сохранилась, как и название — несколько хулиганское «Музей 90-х» на обложке книги; книга как музей, которым она, конечно, не является, но открывает возможность дальнейшей дискуссии. Это и было для нас самой главной задачей».
Чем работа с памятью напоминает работу с психотерапевтом
Немзер: «Когда ты начинаешь заниматься памятью и репрезентацией истории, может быть много отправных точек для того, чтобы ты себе сам свой интерес объяснил.
Можно сказать, что у тебя идет война с Мединским, потому что он у тебя оттяпал князя Владимира, панфиловцев — и вообще ты против того, чтобы история обслуживала идеологию.
У меня это есть вполне, и я от этого не отказываюсь.
Может быть другой отправной посыл: вообще-то есть связь времен, и ты можешь ее прочертить от коллективизации до Сечина — такая игра есть.
Есть общегуманистический «мемориальский» посыл: достать эту историю из гробов, назвать эти имена — потому что не могут шесть миллионов человек во время одной только коллективизации просто уйти в никуда, — повесить таблички «Последнего адреса». Так работают люди с травмой, и это вам скажет любой психотерапевт. И в масштабах общества эта работа — большая гуманистическая миссия. Я этот посыл вполне разделяю и рада к нему хоть сколько-то иметь отношение.
Чем память о девяностых отличается от памяти о советском времени
Немзер: «Работая над «Музеем девяностых», я поняла, что, кроме всех зверских экспериментов, проведенных за 70 лет советской власти, был убит инстинкт политического участия в жизни собственной страны. Есть величайшее событие XX века — двадцатый съезд. Я совершенно не умаляю его значения, но это опять людям сверху сказали: «Мы сейчас разоблачаем культ личности Сталина, вы с завтрашнего дня просыпаетесь в новой стране. У нас теперь оттепель, и мы живем по-новому». То есть даже благие изменения идут сверху, а не снизу. И другой опции, кроме как получить разнарядку сверху, у общества нет.

Когда с тобой так поступают на протяжении долгого времени, у тебя инстинкт политической воли отшибает начисто. А память в этот момент тоже на всякий случай отшибает. Потому что помнить — всегда себе дороже и чревато последствиями.
Вот хороший пример: в 2012 году была годовщина Новочеркасского расстрела, и один из моих коллег писал большой материал об этом, разговаривал со свидетелями и их детьми. Прошло пятьдесят лет, а они боялись говорить и называть свои имена, работал инстинкт «как бы чего не вышло». Так вот это ровно то, чего с девяностыми не происходит. Говорят практически все и про все.
Девяностые — это те десять лет свободы во всех значениях, которые общество так или иначе помнит и о которых оно готово говорить. В любых выражениях. Есть память и есть язык. То, что было до этого и после этого, помнят очень плохо. А девяностые оказались той самой травмой, про которую можно говорить».
Что не так с фразой «Лихие девяностые»
Немзер: «Вообще-то, если разобраться, в слове «лихие» ничего плохого нет: время было лихое во всех смыслах, там было много панковства, много драйва, а еще много страшного. Проблема даже не в том, что штамп плохо помогает разобраться в ситуации. Иной штамп, если он родился естественным путем, очень помогает и точно фиксирует какие-то важные тенденции. Но это не случай «лихих 90-х» — это штамп сверху и из инкубатора, а не в естественных родовых муках рожденный.
Плохо, что этот штамп призван убирать реальную память. Только-только начали проклевываться память и политический инстинкт — и тут же все обратно. Можно было бы воспринимать девяностые — с их яркостью, контрастностью, выраженной травматичностью, но с полем для разговора! — как очень болезненную, но продуктивную точку выхода из беспамятства и через них пытаться что-то вспоминать. Но мы пришли прямиком обратно к уничтожению памяти — и штамп «лихие девяностые» напрямую решает именно эту задачу».