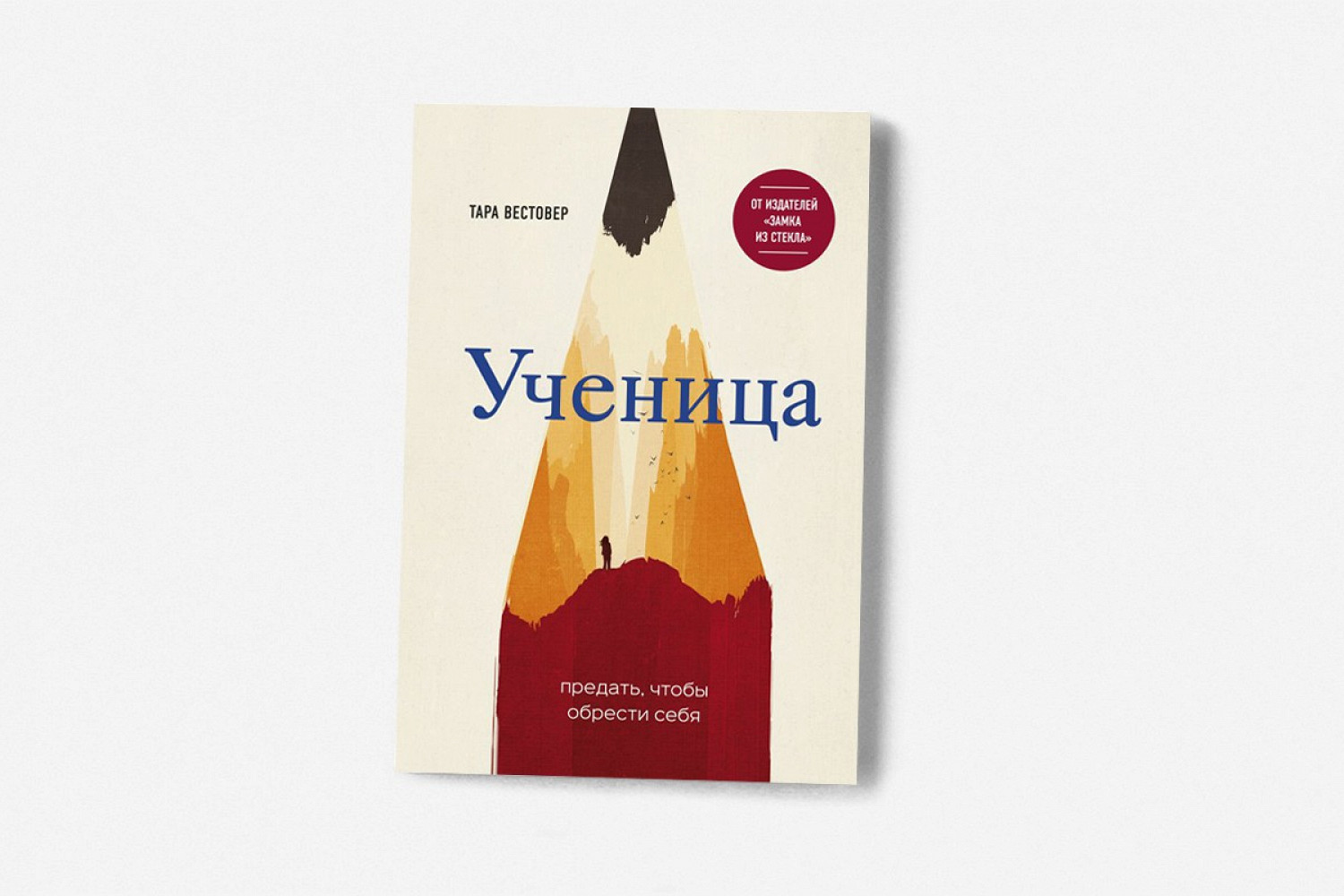Американский историк, выросла в семье мормонов-сурвивалистов; до 17 лет не посещала учебные заведения, но позже смогла получить степень доктора наук в Кембридже
В Новый год мама отвезла меня в мою новую жизнь. Вещей у меня было немного: десяток банок с домашними консервированными персиками, постельное белье и мусорный мешок с одеждой. Мы ехали по широкой трассе, и я смотрела, как расщепляется и меняется пейзаж за окном. Покатые черные вершины гор Беар-Ривер сменились острыми пиками Скалистых гор. Университет располагался в самом сердце гор Уосатч. Я уже видела впереди мощный массив с заснеженными вершинами. Горы были прекрасны, но мне они казались агрессивными и угрожающими.
Моя квартира располагалась в миле к югу от кампуса. Там были кухня, гостиная и три маленькие спальни. Мои соседки еще не вернулись с рождественских каникул. Вещи из машины мы перенесли за несколько минут. Мы с мамой неловко постояли на кухне, потом она обняла меня и уехала.
В одиночестве и покое я прожила три дня. Вот только покоя не было. Покоя не было нигде. Я никогда не проводила в городе больше нескольких часов и теперь никак не могла защититься от странных шумов, которые окружали меня повсюду. Звуковые сигналы светофоров, вой сирен, шипение пневмотормозов, даже приглушенные разговоры людей, идущих по тротуарам, — я слышала каждый звук. Мои уши, привыкшие к тишине Оленьего пика, страдали безмерно. Каждый новый звук был как удар по ушам.
Я совершенно не могла спать все эти три дня. И тут приехала моя первая соседка. Ее звали Шэннон. Она училась в школе косметологии прямо напротив нашего дома. На ней были свободные бархатные брюки и обтягивающая белая маечка на тоненьких бретельках. Я смотрела на ее обнаженные плечи с изумлением. Я и раньше видела женщин, одетых подобным образом. Отец называл их язычницами, и я всегда старалась держаться от них подальше, словно их аморальность могла быть заразной. А теперь такая женщина стала моей соседкой.
Шэннон смотрела на меня с откровенным разочарованием. Моя мешковатая фланелевая куртка и просторные мужские джинсы ей явно не понравились.
— Сколько тебе лет? — спросила она.
— Я на первом курсе, — ответила я.
Шэннон подошла к раковине, и я увидела на ее спине слово «Ядреная». Для меня это было уже чересчур. Я направилась к своей комнате, пробормотав, что уже ложусь.
— Правильно, — одобрила соседка. — Служба начинается рано. Я вечно опаздываю.
— Ты ходишь в церковь?
— Конечно. А ты нет?
— Конечно, хожу. Но ты… Неужели ты действительно ходишь в церковь?
Шэннон посмотрела на меня, закусила губу, потом сказала:
— Служба в восемь. Спокойной ночи!
Когда я закрыла за собой дверь спальни, голова у меня закружилась. Как эта девушка может быть мормонкой?
Отец говорил, что язычники повсюду — и большинство мормонов тоже язычники, хотя они об этом и не догадываются. Я думала о топике Шэннон, о ее брюках и неожиданно поняла, что в университете все будут такими.
Вторая соседка приехала на следующий день. Ее звали Мэри. Она училась на факультете дошкольного образования. Одета она была именно так, как и должна одеваться мормонская девушка в воскресенье: юбка в цветочек почти до пола. Эта юбка стала для меня тайным паролем: я поняла, что девушка не язычница, и на несколько часов почувствовала себя не такой одинокой.
Но вечером Мэри поднялась с дивана и сказала:
— Завтра начинаются занятия. Пора пополнить запасы.
Она ушла и через час вернулась с двумя бумажными пакетами. Но в день отдохновения нельзя делать покупки! Я никогда не покупала в воскресенье даже жевательную резинку! Мэри же спокойно достала из пакетов яйца, молоко и макароны, не сознавая, что каждый продукт, который она складывает в наш общий холодильник, это нарушение заповеди Господней! Когда же она достала банку диетической колы, которую отец мой считал нарушением советов Господа касательно здоровья человеческого, я снова сбежала в свою комнату.
На следующее утро я села в автобус, который шел в противоположную сторону. Когда я сумела сориентироваться и добраться до университета, лекция почти закончилась. Я неловко стояла в заднем ряду, пока профессор, стройная женщина с тонкими чертами лица, не указала мне на единственное свободное место в первом ряду. Я села, чувствуя, что все взгляды направлены на меня. Курс был посвящен Шекспиру. Я выбрала его, потому что что-то слышала о Шекспире и думала, что это хороший знак. Но, оказавшись в аудитории, я поняла, что ничего о нем не знаю. Я лишь слышала его имя и все.
Когда прозвонил звонок, профессор подошла к моему столу.
— Ты не с этого курса, — сказала она.
Я смущенно смотрела на нее. Конечно, я не с этого курса, но как она узнала? Я уже хотела во всем признаться, что никогда не ходила в школу и никак не соответствую требованиям университета, но тут она добавила:
— Этот курс для старших.
— Здесь есть курсы для старших?
Профессор закатила глаза, словно я попыталась пошутить.
— Это аудитория 382. Тебе нужно быть в 110.
Я прошла почти через весь кампус, прежде чем поняла, что она имела в виду. Я достала свое расписание и впервые заметила, что рядом с названиями курсов стоят цифры.
Я подошла к стойке регистрации, где мне сообщили, что все курсы для начинающих уже заполнены. Мне велели каждые несколько часов проверять расписание онлайн и записываться, как только кто-то решит бросить. К концу недели я записалась на вступительные курсы по английскому, американской истории, музыке и религии. А еще я записалась на курс искусства в западной цивилизации.
Английский преподавала веселая молодая женщина, которой не было еще и тридцати. Она постоянно твердила о каком-то «эссе», которое, по ее словам, должно быть нам хорошо знакомо по школе.
Следующее занятие по американской истории проходило в аудитории имени пророка Джозефа Смита. Я думала, что американская история — это просто. Отец ведь рассказывал нам об отцах-основателях. Я знала о Вашингтоне, Джефферсоне, Мэдисоне. Но профессор о них вообще не говорил. Он рассуждал о «философских обоснованиях» и трудах Цицерона и Юма — я никогда в жизни не слышала таких имен.
На первой лекции нам сказали, что следующее занятие начнется с теста по прочитанному. Два дня я пыталась продраться через непонятные тексты из учебника, но такие термины, как «гражданский гуманизм» и «шотландское Просвещение», были для меня настоящими черными дырами, втягивающими в себя все остальные слова на странице. Я читала вопросы теста и не могла ответить ни на один.
Этот провал тягостно сказался на моем настроении. Он дал мне понять, действительно ли я смогу здесь учиться, действительно ли имеющихся у меня знаний, приобретенных во время своеобразного образования, будет достаточно. После теста ответ стал ясен: их недостаточно. Осознав это, я могла бы обидеться на свою семью, которая воспитывала меня подобным образом, но этого не произошло. Чем дальше я находилась от отца, тем более преданной ему становилась.
Проваленный тест никак не подорвал мою усилившуюся преданность прежней вере, а вот лекция по западному искусству стала настоящим испытанием.
Когда я пришла в аудиторию, там было очень светло. Лучи утреннего солнца заливали весь зал теплым светом, проникая внутрь через высокие окна. Я села рядом с девушкой в блузке с высоким воротничком. Звали девушку Ванесса.
— Мы должны держаться вместе, — сказала она. Думаю, мы единственные первокурсники во всем классе.
Пожилой мужчина с маленькими глазками и острым носом зашторил окна и начал лекцию. Он на что-то нажал, и проектор слайдов залил аудиторию белым светом. На экране появилась картина. Профессор рассуждал о композиции, мазках, истории. Затем он перешел к следующей картине, потом ко второй, к третьей…
А потом я увидела странное изображение: мужчина в потрепанной шляпе и плаще. За ним высилась бетонная стена. Мужчина поднес к лицу небольшой лист бумаги, но смотрел не на него. Он смотрел на нас.
Я раскрыла альбом, купленный для этого курса, чтобы рассмотреть картину получше. Под ней было что-то написано курсивом, но я ничего не понимала. Там было то самое слово — черная дыра, — которое поглощало все остальные. Я видела, что другие студенты задают вопросы, поэтому тоже подняла руку.
Профессор заметил меня, я поднялась и вслух прочла непонятное предложение. Дойдя до непонятного слова, я остановилась:
— Я не знаю этого слова. Что оно означает?
Наступила тишина. Мертвая тишина — ни шороха, ни приглушенного шума. Полная, почти жестокая тишина. Не шуршали тетради, не скрипели карандаши.
Профессор поджал губы.
— Спасибо за вопрос, — сказал он, и вернулся к своим конспектам.
До конца лекции я не могла пошевелиться. Сидела, уставившись на собственные ботинки, не понимая, что случилось, и почему, когда я поднимаю глаза, на меня смотрят, словно я урод. Да, конечно, я была уродом и знала это, но не понимала, как об этом узнали все остальные.
Когда прозвенел звонок, Ванесса убрала тетрадь в сумку, потом помолчала и добавила:
— Тебе не следовало смеяться над этим. Это не шутка.
Она ушла, прежде чем я смогла ответить.
Я оставалась на своем месте, пока все не разошлись, делая вид, что на моей сумке заела молния. Мне не хотелось ни на кого смотреть. А потом я направилась в компьютерную лабораторию, чтобы найти слово «холокост».
Не помню, как долго я читала все это, но в какой-то момент силы кончились. Я откинулась назад и уставилась в потолок. Думаю, это был шок, но не могу сказать, испытала ли я шок от того ужаса, о котором узнала, или от собственного невежества. Помню, что в тот момент представляла себе не лагеря смерти, не газовые камеры, а лицо матери. Меня захлестнули эмоции, сильные, абсолютно незнакомые. Я не знала, что это было. Мне хотелось орать на нее, собственную мать, и это желание меня пугало.
Я порылась в воспоминаниях. Слово «холокост» не было для меня совершенно незнакомым. Возможно, мама учила меня чему-то, когда мы собирали шиповник или готовили настой боярышника. Я неясно вспоминала, что когда-то давным-давно евреев убивали. Но я думала, что это был единичный, мелкий случай, вроде Бостонской бойни, о которой часто говорил отец: полдюжины людей были убиты тираническим правительством. Я не могла поверить, что не представляла себе всех масштабов этой катастрофы — пять человек против шести миллионов.
Перед следующей лекцией я нашла Ванессу и извинилась за свою шутку. Не стала объяснять, потому что объяснить это было невозможно. Просто сказала, что сожалею и никогда больше не сделаю ничего подобного. Чтобы сдержать обещание, до конца семестра я ни разу не подняла руку.