«У советских писателей в идеале вообще не должно быть могил»
По просьбе «Воздуха» Дмитрий Волчек поговорил с писателем и переводчиком Марусей Климовой — о ее собственной истории русской литературы, бесконечной популярности классики и разнузданности современного консерватизма.
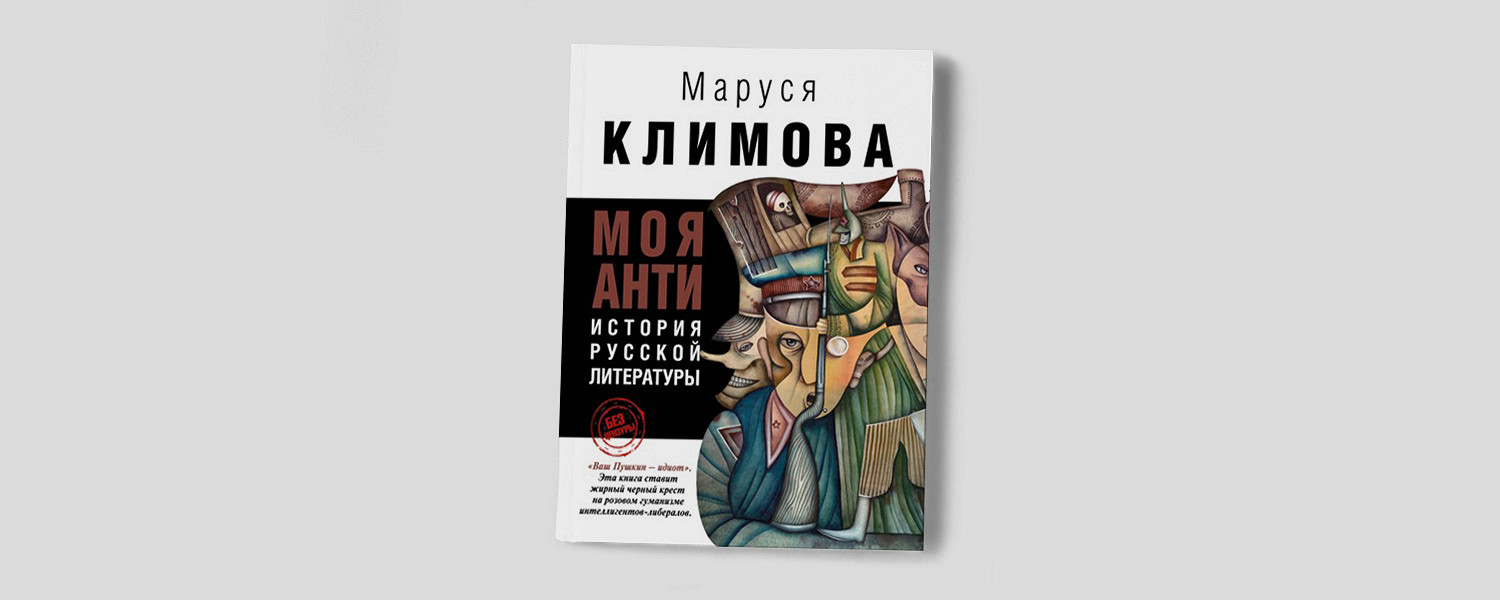
Переводчица Луи Фердинанда Селина, Пьера Гийота и Жана Жене, автор романа «Голубая кровь» и мизантропических дневников Маруся Климова два десятилетия поливала цветы зла. Не всякий мог добраться до потаенной клумбы, где они росли. Теперь они будут доступны народонаселению: издательство АСТ выпускает книгу «Моя антиистория русской литературы», автобиографию Маруси Климовой, написанную на полях учебника родной речи.
- Вы рассказываете в своей книге, что положили белую розу на могилу поэта Апухтина. Какие цветы стоит положить на писательские могилы? А может быть, некоторые надгробия следует пинать и обливать помоями?
- Ваш вопрос, Митя, невольно пробудил в моей памяти строчку из стихотворения забытого ныне советского поэта Сергея Смирнова, где он как раз описывает посещение могилы Пушкина: «Прими, поэт, тебе две розы я принес из целофанного пакета». Запечатлевшийся в этих словах жеманный жест вместе с образом самого автора, который, судя по фото в книге, был сморщенным жутким карликом, когда-то меня ужасно веселили. И тем не менее я думаю, что Пушкин эти свои две розы из «целофанного» пакета от советских писателей вполне заслужил. Поскольку именно он стал едва ли не главной, можно сказать, системообразующей фигурой для культа уродства, который в то время повсеместно насаждался в искусстве. Особенно это заметно в его противопоставлении красавцу Дантесу, про которое тогда писалось и говорилось чуть ли не больше, чем про его взаимоотношения с царем. Поэтому я думаю, что тут нужен дифференциальный подход к каждому писателю. Пушкину — розы из целлофанового пакета, а на могилу Северянина, к примеру, я бы принесла букет изящных искусственных белых лилий. Таких же, как его поэзия, которая тоже была целомудренна и начисто лишена естественных человеческих чувств, что и сделало ее практически неувядающей и долговечной.
В целом мне кажется, что если отбросить в сторону идеологию, то большинство русских писателей не были при жизни полностью равнодушны к красоте, поэтому вполне достойны того, чтобы им приносили на могилу цветы, каждому — свои. Даже Достоевский, хотя его книги и вносят много путаницы в головы читателей. А вот советские писатели, особенно те из них, кто отличался особой живучестью и долголетием, вообще в идеале не должны иметь никаких могил. Поскольку вся их жизнь была посвящена исключительно интригам и цеплянию за жизнь, тогда как искусство, я считаю, гораздо в большей степени является служением именно смерти. Поэтому было бы логично считать, что они так и остались вечно живыми, а могила и цветы, как и другие проявления красоты, им не к лицу. - Когда вы делали цикл интервью с французскими писателями и издателями и спрашивали их о русской литературе, все говорили только о классике, а современную прозу никто не знал и знать не хотел. Вас удручает эта неосведомленность?
 Удручает, конечно, хотя постепенно я к такому отношению привыкла и стала воспринимать его как данность. К тому же у большинства моих парижских знакомых всегда имеется отговорка, что они не читают по-русски, когда я пытаюсь выяснить причины, почему во Франции сейчас переводятся именно эти авторы, а те, которые кажутся мне более интересными, неизвестны. В этом отношении мои французские собеседники, даже самые интеллектуальные из них, чем-то напоминают мне отечественных телезрителей, которые знают только то, что им показывают на экране, а остального мира для них как будто не существует.
Удручает, конечно, хотя постепенно я к такому отношению привыкла и стала воспринимать его как данность. К тому же у большинства моих парижских знакомых всегда имеется отговорка, что они не читают по-русски, когда я пытаюсь выяснить причины, почему во Франции сейчас переводятся именно эти авторы, а те, которые кажутся мне более интересными, неизвестны. В этом отношении мои французские собеседники, даже самые интеллектуальные из них, чем-то напоминают мне отечественных телезрителей, которые знают только то, что им показывают на экране, а остального мира для них как будто не существует.
В свое время Ленин сетовал на заговор мировой буржуазии, а сейчас, мне кажется, впору говорить о всемирном заговоре обывателей в культуре. Особенно это заметно в издательской сфере, где практически все передано в руки посредников в лице всевозможных литагентов, маркетологов и прочих совершенно случайных людей с обыденными представлениями об окружающем мире. Именно они ездят на выставки, встречаются там со своими братьями по разуму и отбирают книги, которые те им посоветуют, Поэтому сейчас «Галлимар», например — это уже совсем не то издательство, каким оно было вначале, когда там работали личности вроде Полана и печатались такие авторы, как Селин и Жене. Хотя там по-прежнему все хорошо отлажено, издается много книг, классика, переводы, но сейчас все это больше напоминает отчужденное производство, где никому ничего особенно не надо.- Но паровоз русской классики все еще прекрасно ездит по европейским рельсам. Я знаю людей, которые заново переводят Толстого и Достоевского на английский и немецкий, и эти переводы издаются и пользуются успехом. Когда я узнал, что на Каннском фестивале покажут турецкий фильм «по мотивам русской классики», я не сомневался, что он получит главный приз, и оказался прав, хотя это невыносимое занудство. Вы в своей книге щиплете и пинаете большую русскую литературу. Вы не сохранили к ней ни малейшей нежности?
- Меня совсем не удивляет внимание к русским классикам в Европе. Другое дело, что такой интерес, как мне кажется, ни о чем важном и необычном не говорит. Все, по-моему, достаточно буднично и привычно. Объективности ради стоит признать, что русские писатели девятнадцатого века заслуживают экранизаций ничуть не меньше своих имеющих аналогичный статус современников из других стран. Поскольку интерес к ним никак не нарушает пропорций обывательского мира, который, как я уже сказала, сегодня примерно везде одинаков. А суть его сводится к следующему: гипертрофированное внимание к уже сложившимся авторитетам прошлого и полная неспособность понять и оценить то, что творится у тебя перед носом. И чем более утрированными и сверхъестественными свойствами наделяются герои далеких веков, тем незавиднее становится участь современного гения, если такого вдруг угораздит сейчас появиться на свет.
Поэтому, когда речь заходит о так называемых классиках и прочих гигантах мысли прошлого, мою душу сразу же начинают переполнять ненависть и злоба, а нежность, как по мановению волшебной палочки, улетучивается сама собой. Потому что мне хочется заставить пережить всех этих безликих любителей бесплотной старины то, что должен был испытывать, к примеру, умирающий от голода в дурдоме Хармс, в то время как члены Союза писателей и другие граждане СССР еще не завершили обсуждение проектов стометровых монументов к столетней годовщине гибели Пушкина. И тогда я, вслед за Ницше, беру в руки незримый молот и начать вбивать такие изваяния в землю, не останавливаясь до тех пор, пока они полностью не скроются под землей.
Правда, и в других моих книгах — о чем бы я ни писала, необязательно о литературе, — обычно вообще нет места нежности. Она, как и все остальные теплые чувства, включая любовь, на мой взгляд, представляет собой в литературе нечто вроде гнили, которая способна разложить и уничтожить любое произведение, стоит только автору допустить их к себе в душу. И, кстати, те из русских писателей, кто мне наиболее близок по духу, подобно некоторым северным растениям, и сами вовсе не нуждаются ни в каком тепле. Так что атмосфера моей книги вряд ли способна нанести им ущерб, а может быть, даже пойдет на пользу. Фет, например, был абсолютно холодным и бесчувственным (в хорошем смысле этого слова) поэтом. Нечто подобное, с некоторыми нюансами, думаю, можно сказать и про Гоголя или Лермонтова. - Если составить частотный словарь Маруси Климовой, то первые места займут слова «красота» и «гений». Что вы могли бы рекомендовать в качестве образцов безупречной красоты и абсолютной гениальности?
- Если бы в этом мире была возможна чистая красота, то он бы, мне кажется, стал совсем простым и понятным. Но в нем присутствует еще и такое явление, как юмор, который является соперником и одновременно как бы тайным союзником прекрасного. Юмор в искусстве и жизни проявляется, в частности, через моду, которая способна сделать эстетически привлекательными любые, даже самые отталкивающие предметы и вещи. И наоборот, лишенная актуальности красота превращается в свою полную противоположность и становится уродливой. Именно это обстоятельство и делает гениальность ускользающей от понимания и глубоко враждебной обывателям, которым кажется, что актуальное искусство существует исключительно для того, чтобы постоянно ставить их в нелепое положение и оттенять их уродство. Особенно это заметно было в СССР, где насаждались ценности так называемых простых людей, а мода и вовсе преследовалась. Тогда официальные идеологи любили говорить о создании некой новой здоровой культуры, подчиняющейся неким общепринятым и очевидным для всех нормам, но именно культуру в лучших своих образцах они ненавидели и преследовали больше всего, поскольку она создается гениями и по своей природе вообще не может быть простой и понятной всем.
Что касается примеров гениальности, то в России, мне кажется, две самых важных для гения черты — красота и юмор — в наиболее чистом виде, я думаю, в наши дни воплотились в личностях, образе жизни и творчестве Владика Монро и Тимура Новикова. И даже то, что они оставили после себя не так уж много свидетельств своей гениальности в виде картин и других материализованных произведений искусства, с одной стороны, безусловно, является их недостатком, а с другой — еще сильнее подчеркивает их особую приближенность к вечно ускользающей и эфемерной красоте. - Мейнстримные издатели много лет игнорировали ваши сочинения. Теперь «Мою историю русской литературы» выпускает крупнейшее московское издательство. Причем происходит это в то самое время, когда господствующее в обществе умонастроение еще дальше сдвинулось в сторону самого дремучего консерватизма. Какие ощущения у вас вызывает этот глубокий разлад с Россией — огорчение, удивление, наслаждение?
- Я бы не назвала происходящим сейчас в России процессы торжеством консерватизма и тем более каких-то традиционных ценностей. Консерватизм предполагает наличие строгих иерархий и дисциплины — я и сама в этом смысле отнесла бы себя скорее к консерваторам, чем к кому-то еще, однако сейчас, наоборот, повсюду приходится наблюдать абсолютно ничем не обузданную раскрепощенность и свободу самовыражения, особенно на официальном уровне и в СМИ. Коммунизм и православие — все смешано в одну кучу, национализм в зависимости от обстоятельств плавно перетекает в интернационализм, и наоборот; вырванные из контекста цитаты западных традиционалистов и русских мыслителей начала века перемежаются мнениями рабочих уральского завода и предсказаниями астрологов; с глобальными идеологическими заявлениями и нравоучениями выступают какие-то безграмотные поп-исполнители и обвешанные металлическими украшениями волосатые немытые байкеры, документы даже на правительственных сайтах вывешиваются с грамматическими ошибками, ведущие центральных каналов неправильно ставят ударения и коверкают слова, а представители власти изъясняются на уголовном жаргоне. Подобная раскрепощенность, наверное, могла бы быть даже забавной, но то, что я вижу сейчас вокруг себя, в последнее время все больше начинает напоминать мне плохой фильм, в котором актеры, вместо того чтобы играть так, как их когда-то учили в театральном вузе, вдруг почему-то решили совсем не напрягаться и стали просто кривляться. Известно, что Фрейд когда-то считал русских своими любимыми пациентами, идеи Маркса тоже неплохо прижились на отечественной почве, а сегодня, когда смотришь на многих политиков и некоторых активизировавшихся за последнее время рядовых граждан — особенно из числа тех, что называют себя верующими, — то невольно ловишь себя на мысли, что русские люди явились в этот мир еще и для того, чтобы максимально наглядно проиллюстрировать теорию Дарвина о происхождении человека. Поэтому происходящие сейчас вокруг процессы в социуме не вызывают у меня никаких особых эмоций, кроме скуки и еще иногда тошноты.
А то, что издательство АСТ именно сейчас решило выпустить «Мою историю русской литературы» достаточно массовым тиражом, пока остается для меня загадкой. Правда, там сейчас работает еще и вполне конкретный молодой человек, составитель серии Илья Данишевский, о котором я раньше никогда ничего не слышала, но именно он, насколько я знаю, нашел меня и эту книгу, после чего не без труда отстоял идею ее издания перед своим начальством. Так что роль личности в истории, в том числе и моей, пока еще никто не отменял. Хочется верить, что это какое-то свежее веянье в современной российской культуре. Было бы логично, мне кажется, если бы на смену писателям типа Прилепина, чьи сытые физиономии все прошедшее десятилетие не слезали с обложек глянцевых журналов, теперь, когда эпоха гламура окончательно завершилась, пришли, наконец, высокодуховные утонченные декаденты вроде меня, являющиеся поборниками таких традиционных для русской культуры ценностей, как гениальность и красота.
- Издательство АСТ, Москва, 2014
Текст и интервью