О чем рассказывают альтернативные учебники по русской литературе
«Воздух» вспомнил все учебники по русской литературе, которые никогда не окажутся в школьных библиотеках, но всегда будут интереснее своих аналогов, рекомендованных министерством образования.
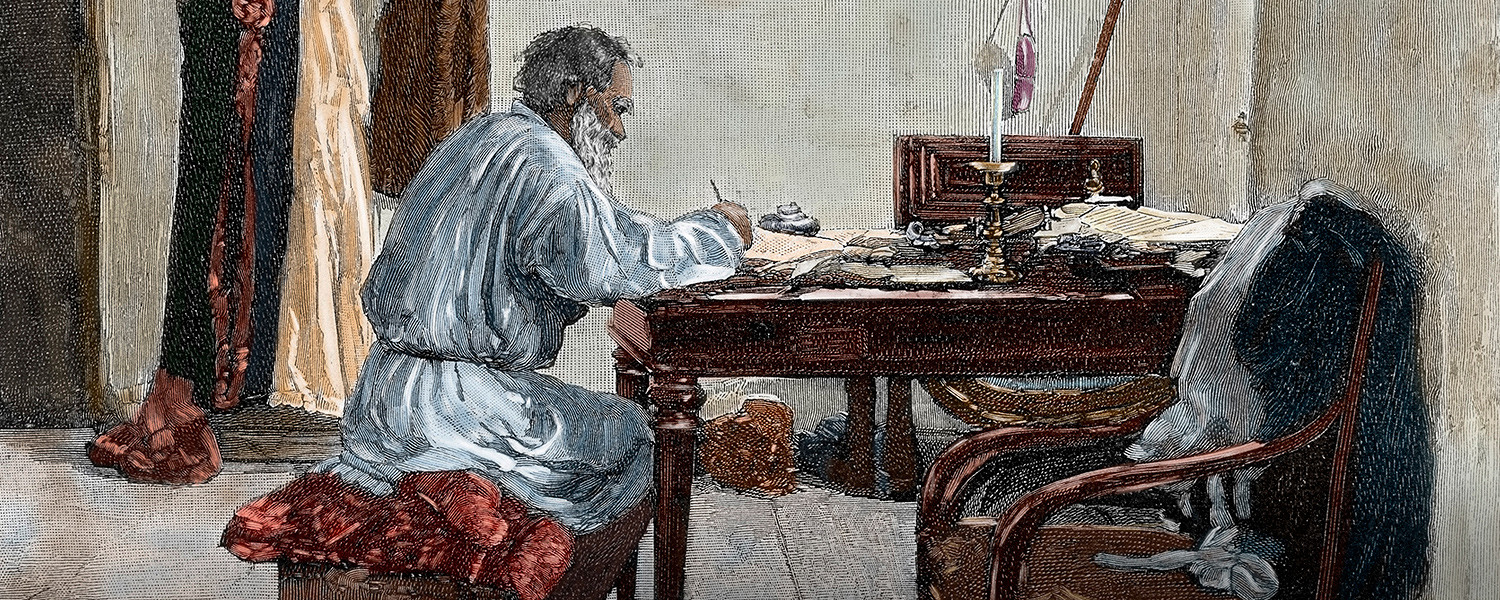
Для чего нужен учебник литературы? Для того чтобы скучающий школьник заинтересовался предметом? Вряд ли, ведь бескомпромиссно скучное изложение биографических фактов или пресловутое заигрывание с «юным читателем» одинаково непродуктивны. Для того чтобы он не запутался в предмете? Но ведь подход авторов учебников, как правило, избирателен, а также связан с многочисленными образовательными стандартами, так что говорить о более-менее верной картине не приходится. Почти все альтернативные учебники литературы, о которых мы хотели бы вспомнить, свободны от этих установок: их авторы повышают градус теории или позволяют себе инвективы в адрес предмета рассмотрения, но любой ценой уходят от формата учебника как «интеллектуальной свалки, куда отправляется все, что уже утратило интерес для взрослых». Именно так воспринимает учебники писатель Маруся Климова, к выходу «Моей антиистории русской литературы» и приурочен этот обзор.
Петр Вайль, Александр Генис «Родная речь. Уроки изящной словесности»

Эта книга очень хороша для первичного ознакомления с предметом: особенно будут рады читатели, которые хотели бы узнать о русской литературe XIX века побольше, а от одобренных соответствующим ведомством учебников толку нет никакого. Петр Вайль и Александр Генис уделяют минимум внимания биографии автора («биографии» в понимании школьного учебника: родился — женился — воевал — стрелялся — умер от чахотки), сосредотачиваясь на адаптации классических сюжетов во времена, когда их значимость нужно подчеркивать дополнительно. Как известно, книга «Родная речь» написана в 1980-е годы, когда авторы уже довольно давно были в эмиграции. Оба эти факта очень заметны в ней: с одной стороны, линейная история русской литературы (Вайль и Генис принципиально рассматривают только классиков в формате «ничего лишнего»), которая могла бы иметь и экспортное значение, с другой — продолжение дружеской беседы, объединяющей два континента и продолжающейся не одно десятилетие.
Цитата
«Чтобы Русь понеслась к ослепительному идеалу, именно Чичикову надо пережить «второе рождение», именно с ним должно случиться чудо обращения, которое так часто происходит с будущими героями Толстого. Губернская кунсткамера «Мертвых душ» была слишком абсурдна и нелепа, чтобы ее можно было «припрясь» к идеалу. Казалось, Чичиков с его мелкой душонкой еще меньше похож на великолепного героя несостоявшегося третьего тома. Но Гоголь видел, что положительные герои берутся только из отрицательных. Только если маленький человек вырастет в большого, утопическое создание гоголевского гения станет реальностью. Мужественная борьба автора со своим героем вела к тому, что Чичиков сможет сбросить скорлупу подлых цепей и пошлых желаний. Новые люди, строители грядущего третьего тома и третьего Рима, должны родиться из убогих Чичиковых». (Из главы «Бремя маленького человека. Гоголь»)«Литературная матрица. Учебник, написанный писателями»

Этот нашумевший учебник призван убить двух зайцев: заинтересовать читателей классическим наследием и познакомить с современной литературой. Обе задачи прекрасны, как и то, что каждый текст не похож на другой: все-таки их писали люди разных дарований, используя разные подходы. Некоторые из текстов представляют собой серьезное исследование, ознакомление с которыми необходимо не только школьникам, но и специалистам, — таковы тексты Аркадия Драгомощенко об А.П.Чехове и Сергея Завьялова об Александре Твардовском. Множество текстов представляет собой образец хорошо выполненной работы: таков обстоятельный и темпераментный текст Елены Шварц о Тютчеве, тонкое эссе Майи Кучерской о Некрасове, Марии Степановой о Цветаевой, Аллы Горбуновой о Мандельштаме и др. Но есть и вопиющие образцы, авторы которых подошли к написанию текста либо слишком тенденциозно, либо слишком безответственно: таковы наполненный словоблудием текст Сергея Шаргунова (о Грибоедове) и эгоцентрические упражнения Михаила Шишкина (о Гончарове) и Александра Терехова (о Солженицыне).
Цитата
«Русский мир» Куприна разнообразен, ярок, вспыльчив, многонационален, витален, и основанием ему служит та же «самоочевидная истина», от которой отталкивается американская Декларация независимости: «все люди… наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Этот мир полноводен, как Волга, близ которой родился Куприн, так же живописен и переменчив. Русский пейзаж у Куприна — вовсе не унылая равнина с мелколесьем и гнилыми деревеньками: это великая равнина большой истории, на которой вольно бродят народы, по которой течет великая река, и берега ее то пологи, то идут морщинами гор, то встают песчаными обрывами, полными ласточкиных гнезд. Она именно такова, эта «русская матрица»: собрав ее из тех деталей, которые он обнаружил в мире богаделен, служивых, ямщиков, лошадей их, циркачей и их тигров и обезьян, проституток и их клиентов, шулеров и их жертв, рыбаков и их косяков рыб, писатель показал нам ее — не «плавильный котел» даже, но море горячей человеческой лавы». (Из главы «Наталия Курчатова. Русское пространство Александра Куприна»)Маруся Климова. «Моя антиистория русской литературы»

Есть известное выражение о любви к родной литературе, не буду его воспроизводить. Книга Маруси Климовой «Моя антиистория русской литературы» довольно системно учит эту самую родную литературу ненавидеть: к себе в союзники она берет Достоевского, Розанова и некоторые другие вполне очевидные персоны. Отдельные мнения и моменты ее книги хочется выписывать и заучивать наизусть: «Критикующий Достоевского Набоков напоминает мне режиссера, отснявшего, к примеру, фильм о гибели «Титаника» в ванной, а затем пытающегося выдать отснятое за происходившее в открытом море». Климова старательно гиперболизирует ничтожество отечественной словесности и отдельных ее представителей, что несомненно найдет отклик в душе отдельных читателей. Другая часть читателей поведется на троллинг и скажет, что так шутят только недовольные жизнью старшеклассники. А кто сказал, что некоторые шутки недовольных жизнью старшеклассников не смешны?
Цитата
«Теперь я понимаю, что нет никакого смысла обвинять Достоевского во всех смертных грехах, и я, в частности, не имею на это никакого права, так как он, в сущности, не виноват в том, что читатели романа «Идиот» сами оказались идиотами. От этого, в конце концов, сам этот роман ничуть не становится хуже. И пусть мотивы поведения его персонажей кажутся мне теперь смешными и высосанными из пальца, этот роман навсегда останется одной из самых загадочных и магических книг мировой литературы, а его оторванность от реальности в каком-то смысле только подчеркивает его загадочность. Сказки Андерсена или «Портрет Дориана Грея» тоже весьма слабо соотносятся с реальностью, но от этого не утрачивают своего обаяния, и я по-прежнему, как и в детстве, люблю эти книги. Так в чем же передо мной провинился Достоевский? Да, в сущности, ни в чем! После некоторых мучительных сомнений я вынуждена это признать. Ну разве что дифирамбы Пушкину в знаменитой юбилейной речи меня и сегодня по-настоящему раздражают, но ведь Достоевский произнес ее, когда был уже очень болен и стар, так что это тоже можно понять…» (Из главы «Писатель и читатель»)Дмитрий Быков «Советская литература. Краткий курс»

Неоспоримое достоинство этой книги — ее можно прочитать достаточно быстро, коротая путь из точки А в точку B. Все остальное, конечно, остается под большим вопросом: увлекательно изложенные, но довольно наивные концепции почти по любому поводу, выстраивание оппозиций, которые давно уже пора сдать в архив (Россия/Европа, тогда/теперь). О стилистических особенностях книги лучше всего сказал сам Дмитрий Быков, рассматривая одного из своих героев (в какой-то момент в них начинаешь путаться): «Трескотня, склонность к эффектным и поверхностным обобщениям, упоение яркой фрaзой». Думаю, на очень многих читателей это произведет большое впечатление, что вполне удовлетворит амбициям Быкова, зачарованного позднесоветским масскультом в диапазоне от межеумочных Эдуарда Асадова и Анатолия Иванова до вездесущего Михаила Веллера, который по совместительству еще друг и наставник автора.
Цитата
«Трифонов задолго до девяностых-нулевых обозначил их стержневой конфликт, хотя и предсказуемый, но для России все же принципиально новый. Поэтому я и говорю о том, что советское — при всех его минусах и плюсах — было естественным продолжением русского, а вот постсоветское пришло откуда-то из другого пространства, это явление совсем иной, небывалой еще природы. В России побеждали те или иные идеи, но никогда еще не было так, чтобы само наличие идей объявлялось опасным и катастрофическим; никогда не было эпохи, когда конформист, карьерист, ловчила представлялся менее опасным, чем борец, потому что борец, видите ли, крови жаждет, а ворюга все-таки милей, чем кровопийца. Весь Трифонов — о том, как убивает, мучает, корежит людей отсутствие идеи, как они убивают и унижают друг друга, побуждаемые к этому не сверхидеей, не внеположной ценностью, а банальной и уютной жаждой покоя и сытости». (Из главы «Отсутствие. Юрий Трифонов»)
Иосиф Бродский «Катастрофы в воздухе» и другие эссе
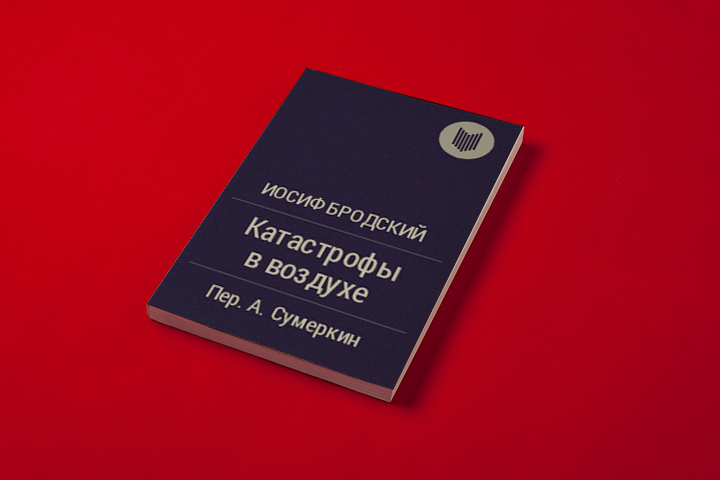
Разумеется, почти все прозаические тексты американского эссеиста (как Иосиф Бродский сам себя аттестовал) эффектны — это относится и к тем, что посвящены русской литературе. Официально они не составили единую книгу, так как чаще всего публиковались вразнобой, но даже если попробовать их соединить, мы не получим цельной картины литературы двух последних веков. Перед нами проницательный — хоть и не лишенный избирательности — взгляд на литературу как сообщество одиночек: биографическая канва и контекст мало интересуют Бродского, гораздо важнее те свойства личности, что помогают и то и другое перерасти. Бродский не систематизатор и не высказывается о вещах, которые ему не интересны: ему важно понять самому и передать другим знание о литературе как практике частного человека, который с невероятной интенсивностью переживает «катастрофы в воздухе» (так называется его эссе об Андрее Платонове).
Цитата
«Из беспорядочной русской грамматики Достоевский извлек максимум. В его фразах слышен лихорадочный, истерический, неповторимо индивидуальный ритм, и по своему содержанию и стилистике речь его — давящий на психику сплав беллетристики с разговорным языком и бюрократизмами. Конечно, он всегда торопился. Подобно своим героям, он работал, чтобы свести концы с концами, перед ним все время маячили кредиторы и издательские сроки. При этом хочется отметить, что для человека, загнанного сроками, он чрезвычайно часто отклонялся от темы: можно даже утверждать, что его отступления часто продиктованы самим языком, а не требованиями сюжета. Проще говоря: читая Достоевского, понимаешь, что источник потока сознания — вовсе не в сознании, а в слове, которое трансформирует сознание и меняет его русло». (Из эссе «О Достоевском»)
Абрам Терц «Прогулки с Пушкиным»

Общеизвестно, что в свое время «Прогулки с Пушкиным» наделали очень много шума: особенно всполошились ортодоксальные пушкинисты, но и многие другие серьезные люди не смогли простить Терцу/Синявскому его выходку. Притом что в пушкинистику автор, что называется, особенно и не лез. Сегодня эта книга уже давно классика, ее значение никто сомнению не подвергает. Между тем это пространное эссе (или небольшое, но очень и очень своеобразное исследование) выполняет, быть может, самую важную функцию учебника литературы, особенно альтернативного: предлагает неортодоксальное прочтение классического наследия. Терц вводит в текст самые обескураживающие факты и размышления: «Старый лагерник мне рассказывал, что, чуя свою статью, Пушкин всегда имел при себе два нагана»; «С цыганским табором, как символом Собрания сочинений Пушкина, в силах справиться разве что шумный бал, занявший в его поэзии столь же почетное место». Вместо портрета с заверенным у небесной канцелярии жизненным путем возникает множество биографических осколков, из которых только предстоит собрать портрет (который, к счастью, никогда не будет цельным).
Цитата
«Тогда дети, наверное, еще не читали Майн-Рида и Жюль-Верна и не увлекались играми в жаркие страны. А у Пушкина уже была своя, личная (никому не отдам!) Африка. И он играл в нее так же, как какой-нибудь теперешний мальчик, играя в индейцев, вдруг постигает, что он и есть самый настоящий индеец, и ему смешно, и почему-то жалко себя, и все дрожит внутри от горького счастья — с обыкновенною мамой трястись на извозчике по летней Рузаевке (поезд «Москва — Ташкент»), в то время как он индеец и не забудет уже этого до конца дней. Крыло рока, свидетельство прошлой, затерянной во времени жизни, предчувствие, что, будучи законным сыном, ты все-таки не тот, найденыш, подкидыш, незваный гость, кавказский пленник в земной юдоли, невесть как попавший сюда, и никто о тебе не знает, не помнит, но ты-то себе на уме. Ты сильнее, ты старше, ты ближе к животным, к диким племенам и лесам. Дикий гений. Дымящийся, окровавленный кусок поэзии с провалом в хаос. И ты смотришь исподлобья, арапом, храня спокойствие до срока, когда пробьет и на арапа ты выйдешь в город, «Даешь Варшаву», оскалишься, знай наших, толпа расступится, спокойно, тише, весь на пружинах, он проносит непроницаемое лицо. «…При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Арап, арап, царский арап!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь». «Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием».
Валерий Подорога «Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы»

Двухтомный «Мимесис» Валерия Подороги состоит из отдельных статей о некоторых авторах XIX–XX веков. На этом ее совпадение с остальными рассматриваемыми здесь книгами заканчивается. Валерий Подорога — академический философ, читающий русскую литературу через постструктуралистскую теорию (но не только), и поэтому его мало интересует формат «первичного ознакомления с предметом» или стремление им заинтересовать. Грубо говоря, нужно быть подготовленным, чтобы приступать к чтению этой книги: Подорога не только оперирует множеством подходов, но и описывает достаточно специфическое понимание таких фундаментальных понятий, как тело, пространство, время. «Мимесис» предлагает концепцию другой, экспериментальной литературы, к которой принадлежат Николай Гоголь, Федор Достоевский, Андрей Белый, Андрей Платонов, Александр Введенский и Даниил Хармс.
- Маруся Климова
- Александр Генис
- Дмитрий Быков
- Иосиф Бродский
- Юрий Трифонов
- Александр Твардовский
- Мария Степанова
- Сергей Шаргунов
- Михаил Шишкин
- Александр Терехов
- Андрей Платонов
- Валерий Подорога
- Николай Гоголь
- Даниил Хармс
- Петр Вайль
- Наталия Курчатова
- Михаил Веллер
- Майя Кучерская
- Елена Шварц
- Андрей Белый
- Анатолий Иванов
- Александр Куприн
- Александр Введенский
- Сергей Завьялов
- Абрам Терц
- Федор Достоевский
- учебники