Чтение на выходные «Напрасные совершенства и другие виньетки» Александра Жолковского
В «Редакции Елены Шубиной» вышел сборник мемуарных эссе советского лингвиста, эмигрировавшего в 70-е годы в США. «Воздух» публикует несколько глав, в которых автор вспоминает забавные истории, произошедшие с ним в молодости.

Чудеса кибернетики
В эпоху бури и натиска конца 1950-х — начала 1960-х годов от кибернетики ждали всех возможных и невозможных чудес. Повинны в этом были не столько математики, сколько журналистская и гуманитарная общественность, раздувавшая вокруг кибернетики научно-фантастический бум. Как-то раз на публичном семинаре одному из отцов-покровителей математической лингвистики, члену-корреспонденту Академии наук А. А. Маркову (сыну великого Маркова — «сыну цепей»), задали вопрос о возможности передачи мыслей на расстояние. Марков, высокий, седой, с холеным лицом и язвительными складками у рта, весь просиял и, расхаживая по сцене своей нескладной (хромающей?) походкой, стал говорить в характерном для математиков празднично-издевательском ключе:
— Ну что же, если у вас появилась некоторая мысль и вы хотели бы передать ее на определенное расстояние, то я бы рекомендовал поступить следующим образом. Надо взять лист бумаги, изложить на нем имеющуюся мысль и доставить этот лист в заданную точку. Если адресат правильно поймет прочитанное, то можно будет утверждать, что передача данной мысли на указанное расстояние состоялась.
«Машки»
В середине 1970-х годов я работал в «Информэлектро», где присутственный режим был сравнительно вольный, но время от времени отдел кадров проводил проверки, о которых, как правило, становилось известно заранее, и тогда требовалась всеобщая явка к 8 утра. Я человек дисциплинированный и большой проблемы в этом не видел; я просто брал с собой в портфеле, а то и в двух, все нужные для моих посторонних занятий поэтикой материалы и мирно корпел над ними в пустой институтской читальне.
Все-таки ранний подъем и психологический стресс, не говоря об утренней давке в метро, видимо, сказались, ибо в одно прекрасное утро я выскочил на платформу на «Красных воротах» только с одним портфелем в руках — привычный самоконтроль (руки не должны быть пустыми) сработал по минимуму. Я, конечно, сразу же обнаружил нехватку, обратился к работникам метро, они связались с машинистом, поезд был осмотрен по прибытии на конечную станцию (а потом еще раз мной, когда опять проезжал «Красные ворота»), но безрезультатно.
Потеря была нешуточная — в портфеле были записные книжки, документы (в том числе институтский пропуск), почти законченная рукопись, которую я собирался отдать в перепечатку (для чего в течение некоторого времени запасался номерами машинисток), иностранные и библиотечные книги, в общем, много чего. К счастью, моя агония продолжалась недолго. Вскоре позвонила Танина мама — сказать, что ей звонил какой-то странный человек, представился нашедшим мой портфель, и она дала ему мои телефоны.
А вскоре позвонил и он сам.
— Саша? Наше вам с кисточкой. Вы потеряли, мы нашли. Ваше счастье, а то, знаешь, потерял — пиши пропало.
— Большое спасибо. Как мы встретимся?
— Давай приезжай, только с тебя, конечно, причитается. И ты, это, один приезжай, без милиции, понимаешь. Если не один будешь, мы к тебе не выйдем.
— Все понятно. Как к вам доехать и как мы узнаем друг друга?
Он объяснил мне дорогу куда-то на самую окраину и сказал, где его ждать. А узнает он меня спокойненько по фотографии на пропуске. В целом радуясь, но несколько тревожась относительно суммы выкупа, я захватил две двадцатипятирублевки, поймал такси и поехал. Как только я, расплатившись, вылез из машины и начал осматриваться, ко мне подошел простецкого вида работяга-забулдыга. В руках он держал мой пропуск и записную книжку, явно наслаждаясь раскладом, при котором он выступал в качестве инстанции, проверяющей документы, а я в роли опознаваемой сомнительной личности. Портфеля при нем не было.
— Да, сперва мы тебя никак не могли разыскать. Твоего-то телефона в книжке нет. Тогда мы стали твоим … [проституткам] звонить, а они, суки, не признаются.
— Каким … [проституткам]? О чем вы говорите?
— Ну как же? Вот, — он протянул мне мою записную книжку, — пожалуйста, черным по белому: машки. И телефонов штук пять. А они все как одна отказываются, говорят, мы его не знаем.
Я заглянул в книжку. На букву «М», под беглым карандашным «Маш-ки», значились телефоны машинисток, добытые по расспросам знакомых и еще не пущенные в ход. Своего собеседника я посвящать в эти тонкости не стал. Он же воодушевленно рассказывал, как, звоня по всем телефонам подряд, они в конце концов вышли на Ксению Владимировну.
— Так где же портфель?
— Ща пойдем, только сперва надо, это, в магазин зайти.
Я понял намек и приготовился раскошелиться. Мой спутник недолго осматривал витрину и заказал три бутылки портвейна. Это стоило рублей пять-шесть, но так как я уже вынул четвертную, я со словами «для дома, для семьи» спешно накупил каких-то дорогих бутылок и шоколадных наборов и погрузил их в сумку. Работяга рассовал по карманам портвейн, и мы двинулись. Он привел меня к стационарному вагончику, в каких живут ремонтные рабочие. Нас встретили веселыми возгласами. Внутри вагончик был обклеен глянцевыми вырезками с полуобнаженными девицами. Меня пригласили принять участие в распитии принесенного, но я отказался, сославшись на занятость. Они не настаивали. Мне был выдан портфель, велено убедиться в сохранности содержимого и посоветовано в дальнейшем не быть таким … [лопухом]. Я отбыл, не веря своему счастью и не переставая дивиться скромности запросов простого советского человека (слова «совок» тогда еще не было). Так я воссоединился с утраченной было собственностью, но зато остро ощутил безнадежность своего отрыва от народа — отрыва пока что метафорического, но которому через несколько лет предстояло овеществиться в виде эмиграции.
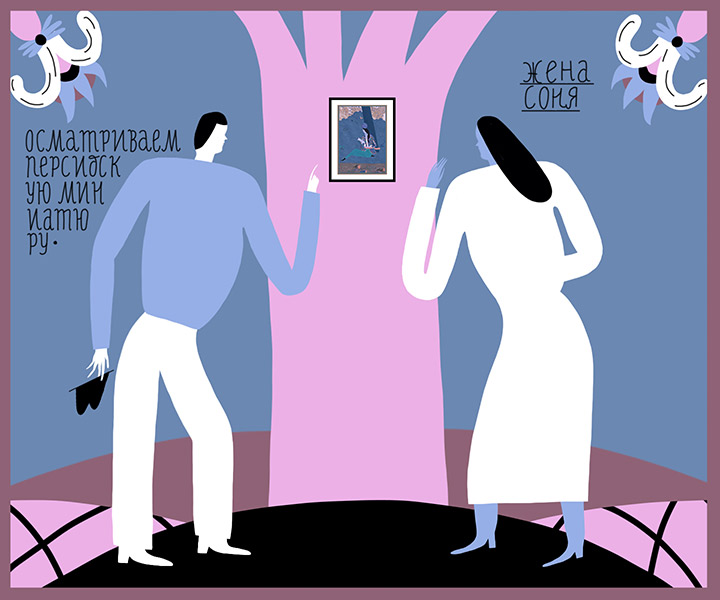
Случайные знакомства
Коротких, но чем-нибудь знаменательных встреч было много, особенно в молодости. Почему в молодости? Хотя бы потому, что за прошедшие с тех пор полвека с лишним даже у самой безнадежной ерунды было время оказаться заслуживающей внимания.
Жепушкин
Например, был такой полулегендарный литературный человек Сергей Чудаков. Мой сверстник, а значит, и сверстник Саши Чудакова, путать с которым его не приходилось, это были совсем разные люди. Саша был основательный филолог, при Чехове, Шкловском и Виноградове, вообще, при деле, а Сережа, столь незабываемо, хотя и преждевременно, отпетый Бродским еще в 1973-м («На смерть друга»), был поэт, ветреник и богемщик.
Я к богеме не принадлежал, но Сережу можно было встретить где угодно и даже просто на улице. То есть, разумеется, не на любой улице, но в пределах Садового, а лучше Бульварного, кольца — с высокой степенью вероятности. «Встретить» же значило, конечно, не просто пересечься, но и обменяться знаками взаимного опознания в качестве членов виртуального сообщества столичных интеллектуалов. Где-то в 1960-е годы, точнее не вспомню, мы столкнулись в районе Пушкинской площади. Формально знакомы мы не были, но контрольное опознание состоялось, и он сразу заговорил, как если бы продолжил недавно прервавшийся разговор. Ему надо было чем-то похвастаться, и я, видимо, годился в благодарные слушатели.
Он говорил на ходу, много, оживленно, но в память врезалось только одно, вероятно, именно то, ради чего я и был взят за пуговицу в виду опекушинского памятника.
— …Я сказал им, хорошо, я напишу, и написал. И там у меня шел такой текст, — он сделал паузу и продекламировал: — «Означенный же Пушкин…» Понимаешь? «Жепушкин!» И они ни хрена не заметили и взяли, и теперь это должно выйти в журнале. — Он назвал один из толстых журналов. — Жепушкин!
На этом он счел впечатление произведенным и, сделав прощальную отмашку, побежал дальше, в сторону Ленкома. Больше мы никогда не виделись. А жив ли он или как и когда умер, не известно даже Википедии.
Алеша
Летом, 1959-го (или 1960-го?), возвращаясь из Коктебеля, мы оказались в одном вагоне с примечательным молодым человеком. «Мы» — это я с моей первой женой Ирой и, может быть, еще кем-то из коктебельчан. Молодой человек, представившийся Алешей, был наших лет, высокий, немного полноватый лицом и телом. Что называется, толстый и красивый парниша. Молодой, но очень внушительный и уверенный в себе. Разговорились. Он оказался ленинградцем, студентом театрального или кинематографического института. Мы спросили, собирается ли он быть актером, нет, отвечал он без колебаний, я буду великим режиссером.
Это прозвучало неожиданно, самонадеянно и — убедительно.
— Тогда уж на будущее нам, наверное, стоит спросить вашу фамилию? — сказал я с некоторым вызовом.
— Моя фамилия Герман.
Ионыч
Другой раз (по некоторым косвенным признакам в 1958-м) мы ехали из Коктебеля в одном вагоне с двумя искусствоведками — студентками истфака МГУ. Одна из них была армянка, хорошенькая, изящная и очень интеллигентная, другая попроще. Армянку я потом иногда встречал около университета, в Ленинке и на улицах вокруг, другую однажды встретил в 1980-е годы, в Нью-Йорке, продавщицей книжного магазина Камкина (тогда еще функционировавшего).
Мы ехали втроем — я, Ира и Юра Щеглов. Ситуация по вине Юры сложилась катастрофическая. Перед отъездом он растратил на сладости (особенно жаловал он так называемый кавказский огурец — популярный в Коктебеле пончик с повидлом) сначала все свои деньги, а потом три рубля, позаимствованные из моих последних, после чего уже в вагоне мы в один присест съели все рачительно закупленные Ирой запасы на дорогу, и до самой Москвы у нас ничего не оставалось.
Голодали мы весело, не таясь, но нашим случайным спутницам поделиться с нами было нечем. Сами они, однако, не голодали, ибо периодически уходили в гости в мягкий вагон к своему любимому научному руководителю и возвращались сытые и слегка навеселе. Во время очередного визита они поведали ему о нашем плачевном состоянии и вернулись с огромным арбузом — в помощь голодающим филологам. Арбуз мы сожрали мгновенно (девушки благородно отказались) и в состоянии наступившей эйфории решили отблагодарить щедрого покровителя стихотворным подношением. Для этого потребовалось установить его имя, отчество и фамилию, дотоле нам не известные: Борис Ионович Бродский. Стихи были тотчас изготовлены, нанесены на обрывок оберточной бумаги и отправлены по назначению с теми же вестницами.
Стишок: Арбуз ионами богат, Нам Ионыч друг и брат! по-видимому, имел успех (о причинах которого ниже), поскольку в ответ последовало приглашение посетить мягкий вагон. Мы отправились, познакомились с нашим заочным благодетелем и были на славу угощены белым хлебом и дефицитным венгерским сервелатом. Ионийская песнь обернулась сторицей. Дело в том, что ионы являли в то лето главную мифологему коктебельской жизни. Владельцем одной из дач, принадлежавших не местным жителям, а столичной элите, был авиационный академик А. А. Микулин, у которого гостили разнообразные знакомые, но который был более всего знаменит своим помешательством на оздоровлении путем ионизации. Ионизация — свободный обмен ионов (электронов?) между телом человека и окружающей средой, прежде всего земной поверхностью, — обещала здоровье и долголетие, якобы знакомое лишь первобытным людям, но утраченное жертвами современной городской цивилизации с ее резиновой обувью, асфальтом и всякого рода иными изоляционными покрытиями. Сам академик Микулин бегал трусцой непременно босиком, всячески заземлялся, питался ионизированной пищей и обо всем этом каждое лето читал лекции, собиравшие массу слушателей. На одной из них помню другого видного коктебельчанина, Никиту Алексеевича Толстого, сына и отца литераторов, то есть лириков, но по профессии физика. Во время лекции Микулина он все время «звонил» — подавал издевательские замечания, не долетавшие до лектора, но смешившие публику.
Микулин рассказывал о переписке с какой-то женщиной, просившей у него советов по поводу бесплодия. Он рекомендовал ей прежде всего заземлить кровать, она это сделала, и в ту же ночь…
— И в ту же ночь она понесла, — успел вставить Толстой.
Все покатились со смеху, Микулин ничего не понял.
Н. И. Толстому в то время не было пятидесяти, он был в расцвете сил, высокий, нарядный, остроумный. Академик Микулин был почти на двадцать лет старше, за шестьдесят, он сильно опережал Толстого по числу Сталинских премий (у него их было четыре, а у Толстого всего одна, и та 3-й степени), но выглядел он спортивно, правда, несколько тяжеловато и своим слегка пухлым лицом напоминал какого-то нестрашного травоядного зверька, хомяка или зайца. Молодежь, естественно, брала сторону Толстого, но задним числом счет, боюсь, оказался все-таки в пользу Микулина. Я имею в виду счет в буквальном смысле, и не только по премиям. Толстой (1917—1994) прожил довольно долго — почти 78 лет, но Микулин (1895—1985) еще дольше — 90. Впрочем, мой папа дожил, без чрезмерных стараний, до 93. Просто очень важно было родиться до революции, по возможности до 1914 года — в, как его когда-то называли, мирное время.
Но вернемся к Борису Ионовичу Бродскому, смысл игры с отчеством которого теперь понятен. Увидав однажды, забыть его было уже нельзя. Он был крупного роста, ширококостный, с большой головой, гигантским ассиро-вавилонским носом и скорее маленькими на этом фоне глазками гурмана и жуира. Он излучал юмор, иронию, всеведение, довольство жизнью, философскую мудрость, еврейский скепсис. Я потом неоднократно встречал его — всегда (кроме одного случая) случайно, на улице, преимущественно улице Горького, где он курсировал между книжными магазинами, Елисеевским, ВТО и другими очагами культуры, беседуя с подвернувшимися знакомыми и делясь своей мирской и книжной мудростью.
При всем при том он был успешно встроенным в московскую жизнь человеком, много печатавшимся и выездным. Я уже начал собираться в эмиграцию, когда, встретив Бориса Ионовича недалеко от Пушкинской площади, услышал рассказ о его недавних приключениях в Вене, где ему пришлось лечить сломанный зуб, валюты не было, но удалось найти дантиста из недавних еврейских эмигрантов, знакомого знакомых, и тот сделал все бесплатно.
— А как вы сломали зуб?
— Там на улице продают невероятной вкусноты вюрстли (сосиски), я на них накинулся, и зуб полетел…
Уже через полгода я смог убедиться в неотразимости венских вюрстлей и сам. Но до этого встал вопрос, что делать с персидской миниатюрой, подаренной мне в свое время двоюродным дядей, некогда работавшим в Персии, а к моменту моей эмиграции уже покойным. Я подумывал ее продать, но в музеях темнили, назначали явно несправедливую цену, и я решил обратиться к единственному известному мне искусствоведу — Борису Ионовичу. Я отправился на улицу Горького и в тот же день встретил его там, как если бы пришел к нему в приемную. Он выслушал меня, сказал, что по таким вопросам специалист не он, а его жена Соня. Мне было назначено прийти к ним домой (кажется, где-то на Садовом кольце между Восстания и Маяковкой). Миниатюра была датирована чуть ли не XVII веком, вывезена контрабандой и до сих пор украшает дальнюю от солнечного света стену нашей санта-моникской спальни.
Что касается долголетия, то тут магическое отчество помогло Борису Ионовичу лишь до какой-то степени. Как сообщает Википедия, Б. И. Бродский (1920—1997) прожил чуть меньше Н. И. Толстого и много меньше А. А. Микулина. Но дело ведь не только и не столько в количестве, сколько, как говорят американцы, в качестве жизни. Тут, я думаю, Борису Ионовичу досталось бы золото, Никите Алексеевичу серебро, а Микулину бронза, богатейшие запасы бронзы.
P. S. Я озаглавил эту виньетку «Случайные знакомства». Но можно ли считать встречи между членами одного, как тогда говорилось, карасса, происходившие на коротком отрезке 1960-х годов и на узкой трассе Коктебель — ул. Горького, случайными?
- Издательство АСТ, «Редакция Елены Шубиной», Москва, 2015