Чтение на выходные «Берлин и окрестности» Йозефа Рота
«Берлин и окрестности» — сборник газетных статей австрийского писателя о германской столице периода Веймарской республики. Вскоре книга выйдет в издательстве Ad Marginem. «Воздух» публикует две главы из нее.

Проносясь над этажами
Городская железная дорога часто проходит вплотную к домам жилой застройки, так что пассажиры вполне могут — особенно весной, когда многоэтажные здания оживают и начинают мало-помалу выдавать свои тайны, открывая взгляду задние дворы, распахивая окна и сокрытый за ними уют домашней жизни, — увидеть и подглядеть немало диковинного и занятного.
Нередко поездка в городской железной дороге бывает поучительнее самых дальних заморских странствий, и иной повидавший мир путешественник в такой поездке без труда убедится, что, в сущности, вполне достаточно узреть один неприметный куст сирени, томящийся на пыльных городских задворках, чтобы разом познать всю скорбь всех сиреневых кустов на свете, обреченных на подобную же неволю в застенках большого города.
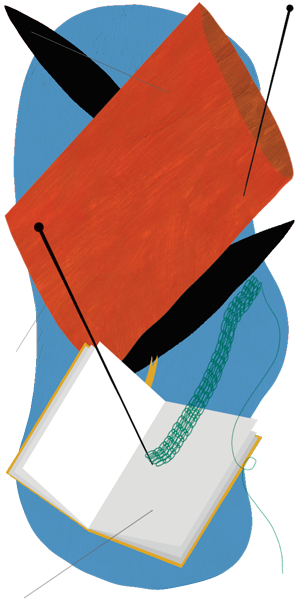 Вот почему после поездки в городской железной дороге я возвращаюсь домой, переполненный жизнью множества прекрасных и печальных картин, и после такого парения по-над домами бываю горд, словно мореход, совершивший кругосветное плавание под парусами. Стоит вообразить себе колодцы дворов еще более мрачными, кусты сирени, томящиеся в них, еще более поникшими, обступившие их стены домов еще на пару метров повыше, а детей в тени этих колодцев еще чуть бледнее — и оказывается, что я побывал в Нью-Йорке и вкусил горечь всех крупнейших городов планеты. Ибо любое важное для тебя открытие можно сделать, не выходя из дома, — или в крайнем случае на соседней улице, благо все схожие вещи, настроения и переживания на свете отличаются друг от друга не по сути, а лишь степенями сравнения.
Вот почему после поездки в городской железной дороге я возвращаюсь домой, переполненный жизнью множества прекрасных и печальных картин, и после такого парения по-над домами бываю горд, словно мореход, совершивший кругосветное плавание под парусами. Стоит вообразить себе колодцы дворов еще более мрачными, кусты сирени, томящиеся в них, еще более поникшими, обступившие их стены домов еще на пару метров повыше, а детей в тени этих колодцев еще чуть бледнее — и оказывается, что я побывал в Нью-Йорке и вкусил горечь всех крупнейших городов планеты. Ибо любое важное для тебя открытие можно сделать, не выходя из дома, — или в крайнем случае на соседней улице, благо все схожие вещи, настроения и переживания на свете отличаются друг от друга не по сути, а лишь степенями сравнения.
Стена дома являет миру свою физиономию и свой характер, даже не имея окон и вообще ничего, что обнаруживало бы ее связь с жизнью людей, кроме огромного рекламного панно шоколадной фабрики, чье предназначение только в том и состоит, чтобы внезапностью своего промелька неизгладимо (сочетанием голубого и желтого) запечатлеться в твоей памяти.
Но за этой стеной живут люди, маленькие девочки-школьницы делают уроки, чья-то бабушка корпит над вязаньем, а собака глодает кость. Пульс этой жизни просачивается сквозь трещины и поры суровой и безмолвной стены, проламывает жесть рекламного панно шоколада фабрики «Саротти», бьется в окна поезда, сообщая их дребезжанию более живой, человеческий оттенок и заставляя тебя прислушиваться к этой близкой, хоть и незримой жизни твоих сородичей.
Даже странно, до чего они схожи — эти люди, живущие в домах вдоль городской железной дороги. Иной раз кажется, будто во всех зданиях вдоль рельсового полотна и под пролетами эстакад поселилось одно огромное семейство.
Я уже знаю кое-какие квартиры возле некоторых станций. Такое чувство, будто я не однажды заходил туда в гости, мне кажется даже, я узнаю голоса, манеру говорить, повадки и жесты тамошних обитателей. У всех у них чуть-чуть шумно на душе от вечного грохота и тряски, и они совершенно нелюбопытны, ибо привыкли, что бессчетное множество людских судеб проносятся мимо них ежеминутно, стремительно и не оставляя следа.
Между ними и окружающим миром как будто некая незримая, но непроницаемая завеса. Они давно не замечают, не осознают, что все их дела, их дни и ночи, сны и мечты заполнены шумом. Этот звуковой фон образовал некий осадок на дне их сознания, и без этого осадка немыслимо, невозможно ни одно впечатление или переживание.
В числе моих давних знакомцев есть, к примеру, один балкон с железными решетками перил, он вывешивается из дома, словно клетка, и всю весну и все лето напролет всегда на одном и том же месте, будто неумолимым пятном масляной краски на картине, что в грозу, что под безмятежным солнцем, на нем выложена красная подушка. Есть и двор, весь воздух которого, кажется, исчерчен множеством бельевых веревок, словно некий сказочный, допотопный и гигантский паук в незапамятные времена протянул здесь от стены к стене свою густую паутину. И там неизменно болтается на ветру один и тот же синий передник в крупный белый горошек.
 За время своих поездок я успел подружиться и с ребенком, это белокурая девчушка. Она сидит у распахнутого окна и пересыпает песок из игрушечных тарелочек в красноватый глиняный цветочный горшок. За истекший срок она, должно быть, заполнила песком горшков пятьсот, не меньше. А еще я знаю некоего пожилого господина, который все время читает. Он, похоже, прочел уже все библиотеки мира. Есть и мальчик, который всегда слушает граммофон, что громоздится перед ним на столе и, кажется, вот-вот его проглотит огромной воронкой своей трубы. Я даже успеваю услышать на ходу и прихватить с собой расплывчатый обрывок звучания. Оторванный от остальной мелодии, этот фрагмент фрагмента потом еще долго звучит во мне, отдельный и бессмысленный, абсурдно и несправедливо сопрягаясь в памяти с обликом слушающего мальчика.
За время своих поездок я успел подружиться и с ребенком, это белокурая девчушка. Она сидит у распахнутого окна и пересыпает песок из игрушечных тарелочек в красноватый глиняный цветочный горшок. За истекший срок она, должно быть, заполнила песком горшков пятьсот, не меньше. А еще я знаю некоего пожилого господина, который все время читает. Он, похоже, прочел уже все библиотеки мира. Есть и мальчик, который всегда слушает граммофон, что громоздится перед ним на столе и, кажется, вот-вот его проглотит огромной воронкой своей трубы. Я даже успеваю услышать на ходу и прихватить с собой расплывчатый обрывок звучания. Оторванный от остальной мелодии, этот фрагмент фрагмента потом еще долго звучит во мне, отдельный и бессмысленный, абсурдно и несправедливо сопрягаясь в памяти с обликом слушающего мальчика.
Зато тех, кто ничего не делает, кто просто сидит и глазеет на проходящие поезда, — таких совсем мало. По ним сразу видно, до чего тосклива жизнь, когда человеку нечем заняться. Вот почему почти каждый придумывает себе дело со смыслом и целью, и даже природный мир употребляется здесь к некоей пользе. Всякий куст сирени в колодце двора сгибается под ношей сохнущего на нем белья. Именно это и есть самое скорбное в облике городских задворков: дерево, которое только цветет, не имея иной цели, кроме как ждать дождя и солнца, блаженно приемля и то и другое, простирая к небу белые или сиреневые кисти своих соцветий, — такое дерево здесь непозволительная редкость.
«Берлинер Берзен-Курир», 23.04.1922
Вокруг колонны Победы
Небо уже подкрасило свою голубизну, словно надумало сходить к фотографу, мартовское солнце смотрит ласково и дружелюбно. Колонна Победы, стройная и нагая, вздымается в небесную лазурь, как будто принимает солнечную ванну. Как и все выдающиеся персоны, истинную популярность и всенародную любовь она снискала лишь теперь, став жертвой неудавшегося покушения.
А ведь долгие годы она была довольно одинока. Разве что уличные фотографы с их ходульными треногами иной раз пользовались ею как фоном, дабы увековечить бессмысленный смех подловленных простофиль-прохожих. Она была безделушкой немецкой истории, сувенирной открыткой для приезжих, объектом экскурсий для школьников. Нормальный взрослый местный житель не взбирался на нее никогда.
Зато теперь, в полуденный час, две-три сотни берлинцев толпятся вокруг колонны Победы, вдыхая дымок едва не состоявшейся сенсации и упиваясь политическими диспутами.
Я, к примеру, совершенно уверен, что вон тот господин в плаще-накидке и широкополой шляпе, напоминающей гигантский гриб, что вырос в самых непроходимых дебрях Тиргартена, — это тихий кабинетный ученый, изучающий, допустим, кристаллизацию кварцев. Вот уже четверть века он каждый день выходит прогуляться по одной и той же аллее, туда и обратно, с неукоснительностью латунного маятника в стенных часах, чтобы потом немедленно отправиться домой. Но сегодня, смотрите-ка, он прошел свой обычный маршрут лишь в один конец, чтобы затем отправиться к колонне Победы. И теперь с большим интересом слушает, как какой-то коротышка, держа в одной руке шляпу, а другой отирая свою вспотевшую лысину носовым платком с трогательной голубой каемочкой, рассуждает о пикриновой кислоте.
Не знаю, имеет ли именно пикриновая кислота хоть какое-то отношение к кристаллизации кварцев. Как бы там ни было, интерес ученого к этому веществу поистине неисчерпаем.
— Динамит, — доносится до меня, — чрезвычайно опасен. Динамитом туннели взрывают. А картонная коробка еще больше эту его опасность усугубляет, потому что образует замкнутое пространство.
— Да как же они этот запальный шнур сразу не учуяли! — изумляется некая дамочка. — У себя дома я малейший запах гари тотчас же слышу.— И дама демонстративно нюхает воздух, словно и сегодня еще способна уловить рассеявшийся вчера дымок запального шнура. Окружающие женщины принюхиваются вместе с ней и с готовностью соглашаются: ну конечно!
— А что это за штука такая, этот ваш бигрин? — вопрошает здоровенный детина рядом со мной. Лицо его розовеет похмельным полуденным румянцем, словно с высоты своего роста он уже узрел альпийский закат. И говорит он о бигрине с таким неподдельно задорным интересом, будто это некое новое всенародное увеселение.
«Национально мыслящий» немец полагает, что это все дело рук коммунистов. Случившийся тут же коммунист подозревает как раз националистов. Возникшие идейные разногласия разгораются все сильнее, и запальный шнур партийно-политической свары распространяет вокруг себя чадное зловоние.
А колонна Победы, беззаботная и ни о чем не ведающая, тем временем гордо и прямехонько возносится ввысь, радуясь, что доступ к ней наконец-то закрыт для всех посетителей.
Я лично нисколько не сомневаюсь: взберись сейчас кто-нибудь на колонну Победы, он непременно услышал бы, как Господь Бог на чем свет стоит костерит глупость всего рода людского, что живет партийными распрями и гибнет от пикриновой кислоты.
«Нойе Берлинер Цайтунг», 15.03.1921
- Издательство Ad Marginem, Москва, 2013