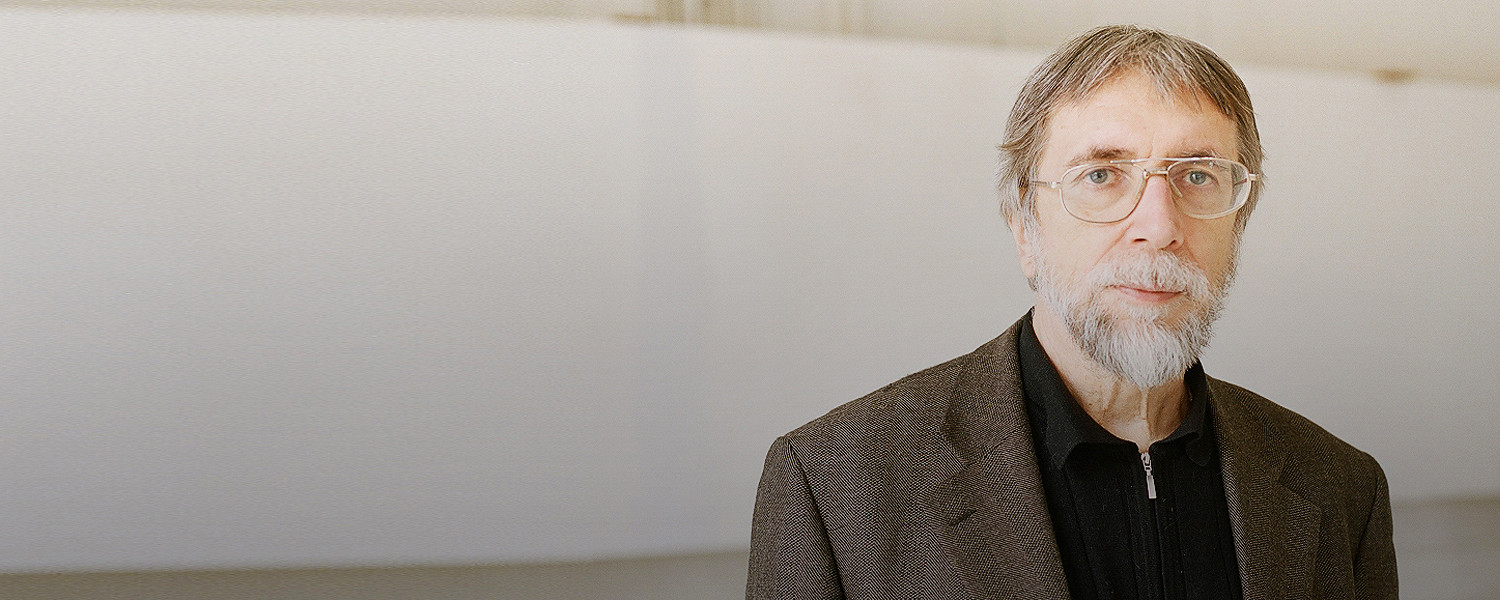
Владимир Мартынов о вреде прогресса, Арво Пярте и композиторах будущего
«Волна» поговорила с Владимиром Мартыновым — едва ли не самым известным современным российским композитором и автором концепции «конца времени композиторов», сотрудничающим не только с людьми из академической среды, но и, например, с Леонидом Федоровым, «Вежливым отказом» и «Хуун-Хуур-Ту».
- — «Времена года», ваш цикл, на который будут показывать балет в «Новой опере», — это же тоже про конец времени композиторов?
— Это цикл, состоящий из четырех частей, каждая посвящена одному композитору. По сути — история композиторского дела. Весна — это XVIII век, Вивальди, с которого начались публичные концерты. Летнее цветение — это Бах. Осень связана с Мендельсоном, который Баха, по сути, и открыл, — с этого началась ностальгия по старой музыке. А зима — это Пярт.
- — У вас с Пяртом, кажется, сложные отношения.
— По-человечески — да, но в смысле музыки — никаких сложностей. Это, я думаю, последний великий композитор. И в смысле таланта, и в смысле известности. Что, в общем, не всегда совпадает: у Сильвестрова качество музыки не ниже, а то и выше, а известности такой нет даже близко. То, что делает Пярт, — это последний из возможных композиторских жестов. И в его творчестве признаки зимы — окостенения, омертвения — уже, конечно, заметны.
- — Я прочитал ваш текст о нем в «Известиях», и он довольно безжалостный, притом что юбилейный: Пярт исписался, ушла свежесть, «попал в маховик музиндустрии».
— Не в Пярте дело. Это судьба всего этого композиторского поколения. И про Райха то же самое можно сказать, и про Гласса. У Пярта самые великие вещи — «Tabula Rasa» и «Страсти по Иоанну» — были написаны в СССР, еще до эмиграции. А уже в 80-х пошло затухание. Не у него, у всех. Возьмите Кабакова. Возьмите Рубинштейна, который в 1997-м вообще перестал писать тексты. Сравните то, что делал Пригов в 70–80-е, с тем, что он делал в 90-е.
- — Вы его еще страшно ругаете за симфонию, посвященную Ходорковскому.
— Мне просто кажется, что его кто-то втянул в это дело. Это настолько не похоже на Пярта…
- — То есть вам кажется, что современный композитор не должен откликаться на повестку дня? Есть же, не знаю, «Никсон в Китае», реквием Райха по жертвам 11 сентября.
— Да не то что не должен… Это просто вопрос масштаба. Я понимаю, если бы Пярт откликнулся, не знаю, на события в Косово, где сотни православных храмов были уничтожены, он все-таки верующий, православный человек. Но Косово его не волнует, а Ходорковский взволновал. Ну как-то это странно. Тоже нашли фигуру.
Так, например, выглядел предыдущий фестиваль Владимира Мартынова: здесь композитор исполняет свой этюд «На пришествие героя»
- — Меня еще в этой статье поразило одно ваше заявление: что в СССР композиторов, может, и притесняли, но они написали свои лучшие произведения — значит, правильно притесняли.
— Ну а почему в перестройку не появилось ни одного громкого композиторского имени, хотя все препоны вроде бы уже были сняты? Исчезла разница потенциалов, которая, видимо, необходима для успешной композиторской судьбы.
- — Это все-таки немного викторианский взгляд на вещи: композиторы — они как дети малые, их надо пороть ради их собственной пользы.
— Да никого здесь не пороли, слушайте, это все мифы. Я все это, слава богу, видел своими глазами, был всего этого участником. Ни Пярта, ни Шнитке, ни Денисова, ни Губайдулину никто не притеснял. Они потом стали из себя делать мучеников, но это все вранье. Композиторы в Советском Союзе катались как сыр в масле, в бытовом смысле — уж точно. Заказы были, Дома творчества, бесплатная переписка нот — да все. Все прекрасно писали музыку для кино, и Шнитке, и Денисов, в громадных количествах. Да и другие… Кабаков и Булатов рисовали детские книжки — никто не бедствовал.
- — Навряд ли они стали бы этим заниматься, если бы у них был выбор.
— Безусловно. Но все-таки это было не так страшно. Ну да, могли не пустить за границу. Запретили в Москве исполнение Первой симфонии Шнитке — так ее потом исполнили в Горьком.
- — Губайдулину почти не исполняли лет тридцать.
— Ой, ну не надо ля-ля, а? Где ее не исполняли? Вот был ансамбль, куда входил Любимов, Пекарский, я, моя жена Таня Гринденко. Мы играли и Штокхаузена, и Кейджа, и все на свете — в Новосибирске, в Питере, в Таллине. Было полно фестивалей. Ну да, они скандально заканчивались, могли быть разные неприятности. Хренников мог вызвать и отчитать. Губайдулина жутко обижалась, как ребенок, что в «Музыкальной жизни» вышла статья про ее одно сочинение под названием «Откройте окна», — мол, у нее музыка как будто с закрытыми окнами. Но это что, гонения? У меня была не так давно премьера оперы «Vita Nuovo» в Лондоне и Нью-Йорке, и после нее — отвратительная критика. Так мне вообще, наверное, надо харакири сделать? Мои концерты тоже запрещали, ну и что? Одни запрещали, другие как-то проходили.
- — Но тогда вы к этому, наверное, по-другому относились?
— Мы переживали, конечно, но вообще-то это все — вопрос эстетики: истеблишмент был ретроградный, и вот они гнобили новую музыку. Впервые в истории, что ли? Шенберга в конце XIX века тоже не очень жаловали, но никто вроде его мучеником Австро-Венгерской империи не называет. Ну это же глупость, правда?
- — Мне вот кажется, что ваша теория конца времени композиторов вашей же жизнью не очень подтверждается. У вас есть свой фестиваль, ученики, заказы, вас постоянно исполняют.
— А тут дело вообще не во мне. Речь о том, что сама фигура композитора утратила свое историческое значение. В XIX веке через фигуру композитора осуществлялась, на секундочку, национальная самоидентификация. Кто олицетворял германский дух? Вагнер. Итальянский? Верди. В России была «Могучая кучка», в Польше — Шопен, в Венгрии — Лист, в Норвегии — Григ. А нация, у которой такого композиторского представления не было, считалась неполноценной — поэтому к англичанам и относились так снисходительно. В XX веке все это пошло на убыль. Последний композитор, которого носили на руках, был Стравинский. Пярта и Сильвестрова уже на руках не понесут, это себе даже представить невозможно. Во второй половине XX века фигуру композитора заслонила фигура исполнителя. И сейчас, скажем, «Грэмми», все-таки самую авторитетную премию в области музыки, композитор получить не может — только если его сыграет какой-нибудь крутой исполнитель. Мы живем в эпоху звукозаписи, а не нотописи. Поэтому отдельные успешные композиторы еще, конечно, есть, но тот резонанс, та среда взаимопонимания, которую даже я застал, — их уже нет и не будет никогда.
Одно из самых масштабных сочинений Мартынова за последнее время — «Дети выдры» на основе текстов Хлебникова для ансамбля Opus Posth под управлением жены композитора Татьяны Гринденко, хора и тувинской группы «Хуун-Хуур-Ту»
- — Это как раз понятно — но вы говорите еще и про то, что закончилось время авторского высказывания как такового. Что автора больше нет. Но вот мы сидим в кафе, и под потолком журчит музыка, которую все-таки кто-то написал, пусть даже мы не знаем кто.
— Понимаете, дело в том, что мы живем в мире, который потерял веру в метанаррации, в рассказы о великих художниках. Никто больше не верит в шедевры. И вот происходит где-нибудь в Азии цунами, человек снимает эту волну на мобильный телефон и тут же гибнет — а картинку успевает отослать. Какое произведение искусства может соперничать с таким снимком? Конечно, автор у этого снимка есть, но это не так важно. Мы вступаем в эпоху нового Средневековья, когда понятие авторства все более и более размывается. В Средние века концепция авторства тоже была не слишком важна. Сейчас — благодаря сети — время такого коллективного автора. Конечно, интернет состоит из авторских высказываний, но они не могут претендовать на моцартовский или бетховенский масштаб. Сейчас это просто не принято, люди стесняются.
- — Но ведь современный человек страшно тщеславен, он никогда не откажется от идеи авторства. Все хотят свои 15 минут славы.
— Это даже не столько вопрос амбиций, сколько вопрос денег. Вы знаете, сколько в Москве зарегистрировано композиторов? Три с лишним тысячи. На моем композиторском курсе в консерватории было сначала 8, а в конце 5 или 6 человек — и это считалось много. Причем это данные РАО, то есть это не мертвые души, а люди, которые получают деньги за исполнение того, что сочинили. В отличие от нас, профессиональных композиторов, которые как раз ничего не получают за то, что их произведения исполняют на какой-нибудь «Московской осени». Исполнители — да. А мы — нет.
- — Ваш фестиваль вам тоже ничего не приносит?
— Да нет, что вы, какое там. За счет чего живет композитор на Западе? Есть сеть фестивалей, которая заказывает произведения — и платит за них вполне прилично. Есть сеть издательств, которая курирует композиторов. И есть сеть фондов. В России нет вообще ничего. Фестивали есть, но они не платят. Ну вот, может, на «Платформе» будут что-то платить. Большинство наших композиторов все нулевые существовали благодаря одному только фонду Форда, который оплачивал записи, выпуск CD и так далее. Фонд год назад прекратил существование, а то бы, видимо, тоже считался «иностранным агентом». Вообще, композиторство в России — это полная катастрофа.
- — А какие у вас отношения с композиторским цехом? Я так понимаю, новое поколение вас не слишком любит.
— У меня нормальные отношения с Невским, с Курляндским, пусть даже эстетически мы стоим на разных платформах. Но вообще, конечно, нас с композиторами разделяет стена непонимания. Они услышали краем уха про конец времени композиторов и решили почему-то, что я их приговорил, — а книжку за десять лет так и не прочли. Никто! Было как-то специальное обсуждение в Союзе композиторов (на которое меня не позвали) — так даже участники не читали. Я все жду каких-то возражений, полемики — ну хорошо, я не прав, ну так докажите! А аргументы пока такие: я ретроград, бездарь, не вышел талантом и решил отыграться. Ну допустим, но с этим как-то не очень интересно спорить. Да и хрен бы с ними, с композиторами! Забыли уже все о них! Мне гораздо комфортней с Леней Федоровым, с Сусловым, с Волковым, с Тарасовым. С ними-то у нас полный контакт. А композиторы — это секта такая, и публика у них сектантская.
Мартынов, Гринденко и Леонид Федоров давно дружат и в последнее время все чаще играют вместе — причем бывает и так, что не только произведения композитора, но и вещи самого Федорова (как здесь — песню «Воздух» из альбома «Безондерс» на стихи Александра Введенского)
- — Людям вашего поколения, той же Губайдулиной, кажется, что у вас слишком жестокая позиция: падающего — толкни. Мол, пространство высокой культуры и так усыхает на глазах, а вы его ногой спихиваете в пропасть.
— Ох. Ну они где нашли-то сейчас эту высокую культуру? Была она — Шуберт, Малер, Вагнер, Моцарт, — но все, кончилась. Смешно на это претендовать после того, как Дюшан пририсовал усы «Моне Лизе». Вообще-то, мне казалось, что моя теория — очень оптимистическая, потому что я верю, что есть выход. Понимаете, музыка — это свободно льющийся поток. Как в индийской раге, в арабских макамах, в григорианике. А композиторы все хотят его превратить в какую-то хитроумную систему запруд, краников и резервуарчиков. Вопрос авторства — это вопрос огораживания: это мой берег, и на нем купаюсь только я. А музыка способна стать потоком, в который может войти каждый.
- — Но ведь вы и сами работаете с высокой культурой — вот хотя бы во «Временах года».
— Ну я-то переходная фигура, я же это прекрасно понимаю. Как утконос. Млекопитающее, которое несет яйца. Уродство, конечно. Я по образованию, по привычкам и навыкам — композитор. Но то, что я делаю, — это во многом уже не композиторство как таковое. Это хуже по мастерству почти всего, что сейчас пишется, но в нем есть что-то иное, новое. Через пару поколений переходный период закончится.
- — И появятся новый тип композитора и новый тип музыки? А что это будет — ну хоть примерно?
— Очень грубый пример — диджей с чемоданом пластинок, из которых он делает какой-то свой продукт. Автор он? И да и нет. Вот будет такой диджей-композитор, но сохранивший все достижения прошлого. Амбициозная задача, но пока она почему-то мало кого интересует. А вместо этого запираться в композиторском цеху и писать свои утлые произведения… Это ведь не поможет. Нет ничего лучше «Зимнего пути» Шуберта или вагнеровской «Валькирии», мы уже так не сможем никогда— это еще Шенберг понимал. В этот мир нет возврата. Вот в конце прошлого года все ждали конца света — а он уже произошел, просто его не заметили. Мир, за который держится Губайдулина, — его больше нет. Мы живем в мире, где уже открыли бозон Хиггса и доказали теорему Пуанкаре. И нам сейчас нужно делать радикальные вещи. Сбросить с парохода современности Дюшана, Кейджа и Малевича. Освободиться от их диктата. Потому что весь контемпорари-арт находится под их гнетом, превратился в какую-то остывшую жвачку. Надо через это перешагнуть. По большому счету наша задача сейчас — остановить прогресс. Помните, Малевич так подписал книжку Хармсу — «Идите и остановите прогресс». Вот это моя главная задача. Я ее очень серьезно воспринимаю.