Чтение на выходные «Пикассо» Арианны Хаффингтон
«Воздух» публикует отрывок из биографии Пабло Пикассо, написанной основательницей новостного сайта The Huffington Post. Книга вышла на русском в издательстве Rosebud.

Гений в смокинге
Война
закончилась, и родился новый мир, в котором не осталось ни иллюзий, ни
ориентиров. Прежние времена ушли безвозвратно, и действительность многим
казалась ненастоящей. Груз истории теперь предстояло нести тем, кто раньше
восставал против старых порядков. Именно в это время бунтари из «Четырех котов»
и Бато-Лавуар начали завоевывать антикварные лавки и модные картинные галереи
на улице Ла Боэси.
Гертруда Стайн описывала зарождение кубизма как время, когда картины пожелали вырваться за пределы своих рам. Женившись на Ольге и переехав на улицу Ла Боэси, человек, которого одновременно превозносили и высмеивали как основателя кубизма, теперь по собственной воле заключил себя в золоченую раму. Эта ирония судьбы отразилась и в его работах. На рисунке, где изображена Ольга с гостями дома на Ла Боэси — Сати, Кокто и английским критиком Клайвом Беллом, все персонажи сидят в неловких позах, на неудобных креслах, в тщательно прибранной Ольгой гостиной. Все следы беспорядка — и присутствия Пикассо — уничтожены. В спальне, большую часть которой занимали две латунные кровати, царила такая же стерильность. Когда в конце концов порядок вытеснил художника и его работу отовсюду, кроме одной комнаты, он арендовал квартиру этажом выше и сделал ее своим складом и мастерской. Сам Пикассо вместе с мольбертом обосновался в «бывшей гостиной, окно которой выходило на юг и открывало прекрасный вид на крыши Парижа, с целым лесом красных и черных дымовых труб, а вдали виднелся элегантный силуэт Эйфелевой башни». В каждой комнате было по мраморному камину с зеркалом, но очень скоро все это пространство было завалено грудами картин, картона, негритянскими масками и ветхой антикварной дребеденью; полы постепенно превратились в коллаж из пятен краски, окурков и пыли. Двери между комнатами всегда были открыты настежь, кроме той, что вела в студию, — та неизменно была заперта, и никто — в особенности Ольга или горничная в белом передничке и с метелкой из перьев — не мог войти внутрь без его разрешения.
 В
начале лета он вместе с Ольгой поехал в Лондон, где проходили репетиции балета
«Треуголка». Музыку
к нему писал Мануэль де Фалья, еще один испанец, а Пикассо по просьбе Дягилева
занялся декорациями и костюмами. Девятнадцатью годами ранее, впервые покинув
Барселону, Пикассо мечтал поселиться в Лондоне. Теперь он приехал сюда не как
бедствующий художник, но как почетный гость; он остановился в отеле «Савой» и
окунулся в череду светских приемов. Прежде ему не позволяла быть щеголем
бедность, затем — привычки богемной среды, но теперь, на Сэвилл-Роу, он мог
одеваться шикарно. Еще подростком он фланировал по Рамбле, изображая из себя
модника — пусть даже у него с его товарищем де Сото была всего лишь одна пара
перчаток на двоих. Теперь эта щегольская сторона его характера проявилась в
полной мере. Он заказывал бесчисленные пиджаки, носил в кармане жилета золотые
часы и наслаждался тем, что бывал одет с иголочки на каждом ужине — и, в
независимости от того, давали банкет в его честь или нет, он неизменно
становился центром внимания.
В
начале лета он вместе с Ольгой поехал в Лондон, где проходили репетиции балета
«Треуголка». Музыку
к нему писал Мануэль де Фалья, еще один испанец, а Пикассо по просьбе Дягилева
занялся декорациями и костюмами. Девятнадцатью годами ранее, впервые покинув
Барселону, Пикассо мечтал поселиться в Лондоне. Теперь он приехал сюда не как
бедствующий художник, но как почетный гость; он остановился в отеле «Савой» и
окунулся в череду светских приемов. Прежде ему не позволяла быть щеголем
бедность, затем — привычки богемной среды, но теперь, на Сэвилл-Роу, он мог
одеваться шикарно. Еще подростком он фланировал по Рамбле, изображая из себя
модника — пусть даже у него с его товарищем де Сото была всего лишь одна пара
перчаток на двоих. Теперь эта щегольская сторона его характера проявилась в
полной мере. Он заказывал бесчисленные пиджаки, носил в кармане жилета золотые
часы и наслаждался тем, что бывал одет с иголочки на каждом ужине — и, в
независимости от того, давали банкет в его честь или нет, он неизменно
становился центром внимания.
Эти разительные перемены во внешнем виде и образе жизни были еще заметнее потому, что в это же время в Лондоне был и его старый друг Андре Дерен — он работал над декорациями для балета «Лавка чудес». Дерен больше всего на свете презирал буржуазность и поселился в скромной квартирке рядом c Риджентс-парком — по выражению Клайва Белла, «их с Пикассо жизнь в Лондоне различалась так же сильно, как их адреса. Мадам Пикассо ни за что не желала участвовать в буйстве и хаосе, пусть даже их учиняли самые рафинированные представители артистической среды». На вечер, который устроили Клайв Белл и Джон Мейнард Кейнс в честь Пикассо и Дерена в доме на Гордон-сквер, Дерен, пренебрегая всеми светскими условностями, прибыл в том же синем саржевом костюме, что носил каждый день.
Как и Жорж Брак, Дерен был убежден, что любые уступки, даже самые незначительные, были бы капитуляцией перед «деспотией буржуа», которую они так стремились низвергнуть, и, более того, — такие уступки перечеркивали смысл их жизни и творчества. Друг с другом все трое держались вежливо, но за глаза никто не стеснялся ругать друг друга на чем свет стоит. «Когда я впервые ее увидела, — писала Алиса Дерен об Ольге, — я приняла ее за горничную. Это была неприметная, маленькая женщина с веснушчатым лицом».
В свою очередь, Пикассо прозвал Брака «мадам Пикассо» — это было оскорбление куда более тонкое и злое: он не только насмехался над работами Брака, но и скрывал под этой насмешкой свою горечь от того, что их необыкновенный творческий союз теперь превратился в чисто показную вежливость.
Может, Пикассо и превратился в денди и светского льва, но его перфекционизм и способность к упорному труду никуда не исчезли. Во время премьеры «Треуголки» в театре Альгамбра 22 июля 1919 года он постоянно находился за кулисами, а рядом был помощник с гримировальными принадлежностями наготове; художник собственноручно раскрашивал лица некоторых танцоров и тщательно осматривал всех остальных. Перед премьерой он целыми днями наблюдал за репетициями Карсавиной — она танцевала партию жены мельника в паре с Мясиным, после чего создал ее костюм буквально на ней. Та, очарованная художником, описывала его творение как «шедевр из розового шелка и черного кружева, платье удивительно простого кроя; это был наряд-символ, а не просто подражание национальному костюму».
Декорации, костюмы, музыка, хореография — все было принято публикой с восторгом, и на поклоны Пикассо вышел в безукоризненном новом смокинге, подпоясанный камербандом, как тореро, — он выглядел экстравагантно, но в то же время был одет вполне по случаю. Так родился Пикассо-чародей. Какими бы тревогами, страхами и сомнениями он ни мучился, теперь он постоянно излучал непоколебимую, почти космическую уверенность в своих силах. Казалось, ему по плечу все. Все больше и больше критиков и покупателей считали его гением — безо всяких оговорок, его работы превозносили и покупали потому, что их создал гений. Отныне уже не его работы делали его великим, но он сам превращал в великое все, к чему бы ни прикасался. Сам он говорил: «Важно не то, что художник делает, а то, что он из себя представляет».
В эти времена всеобщей неопределенности Пикассо стал воплощением гения живописи, и его загадочная сила, подобная силе древнего колдуна, вселяла в людей уверенность. В эти времена он посмел заявить, что прогресса в его работах нет: «Те несколько художественных манер, которые я использовал в своем творчестве, не должны рассматриваться как эволюция или как шаги на пути к открытию новой и небывалой живописи, — говорил он. — Я никогда не делал проб или экспериментов. Всякий раз, когда мне было о чем сказать, я говорил это — и говорил так, как мне подсказывали мои чувства».
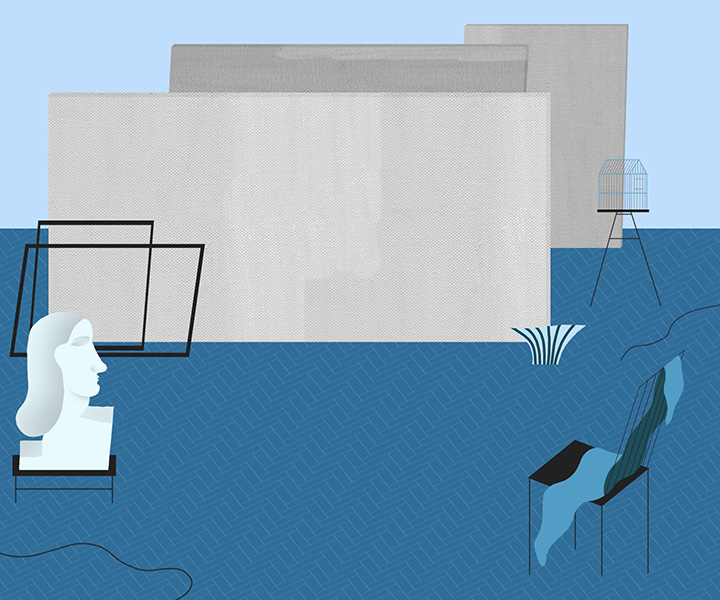
По возвращении в Париж Пикассо заговорил на языке неоклассического реализма (если не считать нескольких кубистских натюрмортов) — вероятно, таким образом он стремился вернуть порядок в свою жизнь и в творчество. Летом 1919 года он отправился на Лазурный Берег, вопреки всем законам тогдашней моды: ведь считалось, что в этот сезон солнце палит слишком нещадно. Из Сен-Рафаэля он вернулся с огромной охапкой рисунков; многие из них повторяли мотив распахнутого окна, в которое вливается свет средиземноморского солнца. Поль Розенберг, как и толпа посетителей выставки, открывшейся в его галерее 20 октября, был восхищен рисунками Пикассо. В это же время Пикассо впервые сделал литографию — она украшала приглашение на выставку, а на обложке выставочного каталога был помещен портрет Ольги на фоне окна, на этот раз — закрытого.
Однако не все критики Пикассо еще угомонились. «В чем смысл всех этих картин? — вопрошал Вильгельм Уде. — Возможно, это было лишь перерывом, красивым, но лишенным смысла взмахом руки, в то время как душа, утомленная долгим путешествием, отдыхала? Возможно, художник мучился от духовного одиночества в чужой стране? Может быть, он стремился раз и навсегда перейти границу и стать французом?» Андре Фермижье пошел еще дальше и назвал этот период Пикассо «прошением о гражданстве». И все-таки, что бы он ни рисовал и как бы он ни жил, Пикассо всегда оставался тем же неукротимым андалусцем. «По всей Андалусии — от скалы Хаэна до раковины Кадиса — то и дело поминают дуэнде, — писал Гарсия Лорка, — и всегда безошибочно чуют его. Изумительный исполнитель деблы, певец Эль Лебрихано, говорил: «Когда со мной дуэнде, меня не превзойти» … Это сила, «которую все чувствуют и ни один философ не объяснит», — это дух земли…»
Пикассо тоже чувствовал, что его никому не превзойти. Будь он в смокинге или в рабочем комбинезоне — дуэнде властвовал над ним. «Моя беда — и, наверное, счастье — в том, что я следую своим желаниям, — говорил он. — Как горька участь того художника, который обожает блондинок, но не рисует их — лишь потому что они не сочетаются с вазой фруктов! Или, к примеру, художник может ненавидеть яблоки, но постоянно рисует их — потому что они хорошо смотрятся на ткани — это тоже ужасно. Я рисую на своих полотнах все, что мне нравится. Я рисую так много вещей, что они просто должны примириться друг с другом — у них нет другого выхода».
Хор восторженных голосов стал еще громче под конец года, когда в парижской Опере состоялась премьера «Треуголки». Представление продолжилось на великолепном приеме у Миси Серт вечером после премьеры. Артур Рубинштейн играл музыку Мануэля де Фальи, а Пикассо, будучи в отличном расположении духа, позаимствовал у хозяйки карандаш для бровей и нарисовал им лавровый венок на лысой голове композитора. Гости были в восторге от выдумки чародея, но, к счастью для де Фальи, никто не пожелал снять с него скальп, чтобы обзавестись работой Пикассо. Поль Моран вспоминал об этом вечере: «Все женщины были немного влюблены в Пикассо, а Пикассо был чуть больше, чем немного, влюблен в Мисю».
Бурные, блистательные двадцатые наступили чуть раньше, чем об этом возвестил календарь. Париж стал центром притяжения для тех, кого Гертруда Стайн окрестила «потерянным поколением». Здесь был и Хемингуэй, и Джеймс Джойс, и Скотт Фицджеральд с Зельдой. Сюда стекались эксцентричные миллионеры, а аристократы отправлялись сюда в добровольное изгнание. Париж был идеальной штаб-квартирой для дадаизма, придуманного в Цюрихе Тристаном Тцарой, — здесь его вскармливали три француза: Луи Арагон, Андре Бретон и Филипп Супо. Они сошлись после войны и «обнаружили, что их объединяет всепоглощающее чувство отвращения к культуре их страны и времени… и презрения к обществу, чьи традиционные воззрения на семью, религию и патриотизм служили только маской».
 Тцара,
похожий на мальчишку, невысокого роста и в монокле (сам он себя называл
«очаровательным»), — бежал из родной Румынии и, прежде чем приехать в Париж, на
некоторое время остановился в Цюрихе; его желанием было «вымести все начисто» и изрядно покуражиться. Он считал, что
время гениев и серьезного, величественного искусства осталось давно позади.
Настала пора писать стихи, доставая слова из шляпы, — чем он и занимался;
пришло время рушить святилища, «плевать на род людской» и, что самое главное, относиться ко всему как к большой
забаве. Как только Тцара прибыл в Париж, его представили Гертруде Стайн, однако
она не была впечатлена. Впрочем, как заявил сам Тцара, «настоящие дадаисты сами
против дада».
Тцара,
похожий на мальчишку, невысокого роста и в монокле (сам он себя называл
«очаровательным»), — бежал из родной Румынии и, прежде чем приехать в Париж, на
некоторое время остановился в Цюрихе; его желанием было «вымести все начисто» и изрядно покуражиться. Он считал, что
время гениев и серьезного, величественного искусства осталось давно позади.
Настала пора писать стихи, доставая слова из шляпы, — чем он и занимался;
пришло время рушить святилища, «плевать на род людской» и, что самое главное, относиться ко всему как к большой
забаве. Как только Тцара прибыл в Париж, его представили Гертруде Стайн, однако
она не была впечатлена. Впрочем, как заявил сам Тцара, «настоящие дадаисты сами
против дада».
Всю войну Тцара провел в кабаре «Вольтер» в Цюрихе, где провозглашал дада правоверным неверием и славил антиискусство как единственное истинное искусство. На стенах кабаре были развешаны кубистские картины, словно бы для того, чтобы задать взбучку старой культуре. Однако большая выставка кубистов в Париже, которая прошла 28 января в Салоне Независимых, показала, что шок от кубистских новаций уже поутих. Пикассо в выставке не участвовал, и это говорило о многом. О его разрыве с кубизмом много толковали — одни восприняли его с облегчением, другие считали предательством. «О нет, — восклицал Пикассо, — не ждите, что я стану повторяться. Мое прошлое меня больше не интересует. Я лучше буду копировать других, чем самого себя. Так я, по крайней мере, что-то принесу в чужое творчество. Мне слишком нравится открывать новое». Никакая привязанность к былым открытиям не могла устоять перед его художническими интуициями и порывами. «В конце концов, что такое художник? — спрашивал он. — Художник — это коллекционер, который создает собственную коллекцию, рисуя то, что видел в других коллекциях. С этого все начинается, но затем следует уже совершенно другая история».
В феврале в Париж вернулся Канвайлер — и оказалось, что верность старому другу Пикассо тоже считал необязательной. Его прежний торговый представитель открыл галерею в доме 29bis по улице д’Асторг под именем своего партнера Андре Симона, но Пикассо предпочел остаться с Полем Розенбергом — в интересах собственной выгоды: ведь Розенберг обеспечивал высокие цены и доступ к широкому кругу состоятельных, хотя и неискушенных покупателей.
Верностью своим друзьям Пикассо не отличался, но стоило кому-то отступиться от него — на самом деле или только в его воображении — он выходил из себя. В свет вышла поэма Андре Сальмона «Рисовать» («Peindre»), на обложку которой он поместил свой портрет кисти Пикассо, написанный еще во времена Бато-Лавуар, а саму поэму посвятил «Андре Дерену, французскому художнику». Пикассо рвал и метал. «А меня ты французским художником не считаешь?» — возмущался он, словно ребенок. Кокто постоянно называл его cher magnifique («дорогой великолепный» — французский), а Пикассо не реже с издевкой подтрунивал над ним: «Кокто родился в выглаженных брюках. Он становится ужасно знаменит: вы найдете его работы у всякого парикмахера».
В то же время Пикассо и Ольга упивались жизнью в мире блеска и легкомыслия — и в этот мир они попали именно благодаря Кокто. Очень скоро месье и мадам Пикассо стали желанными гостями на всех модных приемах, в том числе у принцессы де Полиньяк в ее огромном салоне на авеню Анри-Мартен, где собирались все — знать, буржуазия, художественная элита и любовницы принцессы. Но главным устроителем вечеров был все же граф Этьен де Бомон — именно он, по выражению Радиге, «первым провозгласил бал после войны». Галантный, утонченный, манерный и импозантный, Бомон был женат на Эдит де Тен, которая балам предпочитала переводы греческой поэзии, но ради своего мужа занималась и тем и другим. Присутствие Пикассо и Ольги считалось за честь на роскошных вечерах в их особняке восемнадцатого века на улице Дюрок. Чаще всего там устраивали экстравагантные костюмированные балы — гостям предлагали прийти в костюмах французских колонистов или Версаля времен Людовика XIV (самого короля на этом балу изображал граф). Больше всего ажиотажа вызвал бал, на который нужно было «одеться так, чтобы неприкрытой осталась самая интересная, с вашей точки зрения, часть вашего тела».
- Издательство Rosebud, Москва, 2014, перевод С. Кузнецовой