«Стихотворения и переводы» Григория Дашевского: первое полное собрание поэта
«Новое издательство» выпустило первое полное собрание стихотворений и переводов Григория Дашевского, умершего полтора года назад. Варвара Бабицкая рассказывает о том, как читать эти непростые тексты.
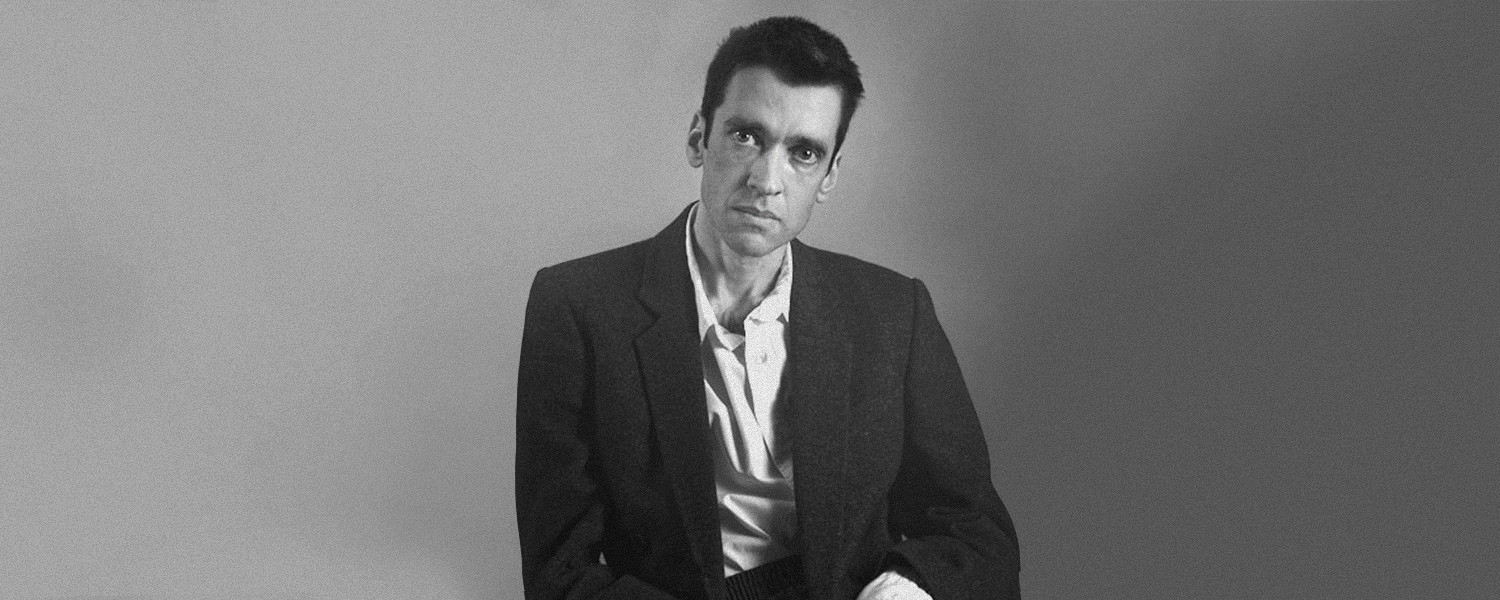
Первое полное собрание стихов и переводов Григория Дашевского, вышедшее через год с малым после его смерти, рецензировать очень тяжело. В современной русской литературе нет другой настолько безусловной фигуры, какой был Дашевский, такой почитаемой и любимой, вызывающей настолько пристрастное чувство равно у близких и дальних. Ни формат, ни объем рецензии не предполагают подробного анализа поэтических текстов, который я не без облегчения оставляю более сведущим коллегам, тем более что читателю несколько менее сведущему для начала хорошо бы просто объяснить, что произошло. Масштаб того литературного события, которое представляет собой эта книжка, прямо пропорционален зияющему отсутствию Дашевского-поэта в сознании широкого читателя.
Может быть, дело в сложности поэзии Дашевского, а может — в его совсем особенном положении в глазах литературного цеха, но есть ощущение, что читатели его ПСС делятся на тех, кому не нужно ничего объяснять, и на тех, от которых это событие вроде как ревниво утаено. Для огромного числа читающих и пишущих людей, даже не знавших автора близко, его стихи стали личным делом, его смерть — личным горем, а горе эгоцентрично. Тираж «Стихотворений и переводов» — всего 1500 экземпляров, книжка производит герметичное впечатление, в ней нет, скажем, справочного аппарата или вступительной статьи, которые могли бы облегчить задачу новому читателю, но безутешным старым ощущались бы как вторжение.
Дашевский мало прожил и мало написал: полное собрание его стихов не насчитывает и сотни текстов. Небольшая, аскетически оформленная книжка наглядно иллюстрирует собой ту концентрацию, ясность и трезвость мысли, которой он был знаком широкому читателю по своей деятельности в смежных областях словесности — как переводчик (Трумена Капоте, Иосифа Бродского, Ханны Арендт, Рене Жирара, который подробно обсуждается, например, в передаче «Школа злословия» с участием Дашевского, и многих, многих других) и лучший литературный критик последних десятилетий. Наверное, он и правда лучше других сам может помочь новичку разобраться, почему для многих был поэтом по преимуществу, а его стихи входят в любой возможный современный канон.
Помимо стихотворений и переводов в книжку вошли два программных эссе Дашевского: его предисловие к давнему сборнику «Дума иван-чая» и статья 2012 года «О том, как читать современную поэзию». Цитата из нее вынесена на обложку: «Но поэзия устроена иначе. В ней нет сообщничества профессионалов, которые одинаково понимали бы какой-то тонкий термин, и нет такого, что чем дальше человек от них отстоит, тем неправильнее он его понимает. Ключ к стихам — не то, что человек — правильно или неправильно — думает о поэзии, а то, что человек думает о себе или о своей жизни».
Это, вообще-то, провокационное заявление. У читателя часто складывается именно что впечатление заговора профессионалов. Отчего лучшая существующая поэтическая критика сама пишется птичьим языком, нуждающимся в толковании — отдельный вопрос, но Дашевский — и тут исключение. Он отрекся от монополии на понимание стихов, предлагая и читателю, и, главное, писателю стихов новые правила игры: «Начинать любой разговор с нуля, чтобы тебе заранее стихотворение не нажимало на какие-то эротические центры узнавания того, что ты уже читал, говоря как бы: мы уже знакомы. Ты уже среди своих».
На практике хорошая поэзия своей сложностью всегда опровергает прямолинейность любого поэтического манифеста. В случае Дашевского это противоречие кажется демонстративным. Будучи противником «цепляния за узнаваемые цитаты, размеры, образы» (которое мы привычно воспринимаем как почти обязательный, в узком смысле — поэтический, а в широком — интеллигентский язык), он предлагал помещать в само стихотворение все существенное, что необходимо для его понимания, ничего не оставляя за скобками. При этом собственные его стихи часто представляют собой прямо переводы из Катулла, Проперция, Уилльяма Блейка, Роберта Фроста, а когда нет — посвящены памяти Н.А.Куна (автора книги «Легенды и мифы Древней Греции», которая для многих поколений стала первым детским погружением в тему) и называются «Одиссей у Калипсо», а не то — расставляют ударения в стихотворении о больничном тихом часе («Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или/его фóтокáрточки под подушкой, кто в глаза медсестрам серые смотрит/ без просьб и страха»), чтобы подчеркнуть сапфическую строфу (это если вдруг кто не признал!). Многие поэты делали переводы, но именно у Дашевского они неотъемлемая часть поэтического корпуса. Они не вынесены в отдельную рубрику, это его собственные стихи, хотя их источник указан. Чтобы разрешить это противоречие, нужно совершить некоторое специальное усилие доверия к интеллектуальной честности автора и поискать в его стихах те механизмы, которые отвечают заявленной программе. Доверие — пожалуй, главный трюк, которым может поделиться здесь тренированный читатель поэзии.
Поэтическая цитата — это еще и страховка, способ укрыть свое как слишком мелкое или саморазоблачительное. Вот, я согласен с этой мыслью, но я — больше. У меня за душой осталось еще что-то невысказанное. «Мысль изреченная есть ложь», как известно, а чужая мысль изреченная — всегда отчасти не всерьез. Еще безопаснее с этой точки зрения лирическое я, к которому приучила нас романтическая поэзия: если все субъективно, значит, никто не может провиниться перед истиной — но на самом деле, как пишет Дашевский в предисловии к «Думе иван-чая», «все я, взятые изнутри и поодиночке, невинны и особенны, а взятые извне и скопом — виноваты и одинаковы».

Поэтому автор стремится перейти «от отдельного и внутреннего к совместному и внешнему» и на этом пути отказывается для начала даже от той законной страховки, которую гарантирует перевод. Мне кажется, что в этом заключается ответ на вопрос, зачем вообще «пересказывать классиков своими словами», если при этом ни на йоту не изменяешь смысл оригинала, если не стоит задача написать пародию или вариацию на тему (а это переводы несравненной точности). В его переводе из Проперция покойная возлюбленная, отравленная «гнусной химией», сожжена в «крематорской печи»; знаменитая эпиграмма Катулла у Дашевского выглядит так:
Коля! Зара моя, моя Зарема,
та Зарема, которую такой-то
ставил выше себя, родных и близких,
по подъездам и автомобилям
дрочит жителям и гостям столицы.
Этими сегодняшними интонациями автор как бы показывает: игра в прятки заканчивается здесь, сказанному верить. «Чей лес, мне кажется, я знаю:/в селе живет его хозяин./Он не увидит, как на снежный/я лес его стою взираю» — чей смысл, нам кажется, мы знаем, хозяин указан — «Из Роберта Фроста», но это имеет второстепенное значение: если смысл чего-то стоит, он существует сам по себе, как платоновская идея. Дашевский объяснял свой принцип «перевода» так: «Если я вижу, «откуда взято» чужое стихотворение, то есть вижу трехмерное тело, проекцией которого является данный латинский текст, то я могу построить свою проекцию того же самого тела на свою плоскость — моего языка, времени, ситуации и пр.»
Катулл, используя стихи Сапфо, не называл их переводами (об этой истории подробно писал, например, Михаил Леонович Гаспаров). У Дашевского «я» — уже не «Катулл», но и «Григорием» не становится — он «такой-то», кто бы ни был.
Любая поэзия — это преодоление своей немоты, косноязычия. Под этим обычно понимают неспособность подобрать слова, но безнадежнее другой случай: наоборот, слишком гладкая речь, закосневший язык, состоящий не из слов, а из фраз, в которые вмонтировано слишком много готовых смыслов, так что не остается воздуху сказать что-то новое и свое. Лирическое я обречено говорить заемным голосом, принимая его за свой. Современная поэзия эту проблему осознает и решает по-разному. Концептуалисты вынимали чужой голос из родного ему контекста и подвешивали в воздухе, так что этот голос, как приговского Милицанера, и с Востока видно, и с Юга, и с моря, и с неба — «да он и не скрывается». У Дашевского сходным образом устроена поэма «Генрих и Семен», не похожая на все прочие его тексты. Другие поэты, такие как Федор Сваровский и условные «новые эпики», формально вообще отказываются от внутренней речи и пишут сюжетные стихи, истории в третьем лице; в балладную сторону пишут такие разные авторы, как Юлий Гуголев и Мария Степанова (можно сказать, сознательно повторяя миграцию все более мифологизированного общественного сознания новых «Темных веков»). Дашевский же идет туда, где не коня потерять, не женату быть, а свою голову сложить.
С одной стороны, лирическое я на то и я, что поэт не может выйти за его пределы — в том числе и в поэзии третьих лиц, где «лиричность витает около любых масок», с другой стороны, любое я само всегда маска. Поэтому Дашевский выбирает «трезвое рабство у той же иллюзии».
Большую часть жизни Дашевский тяжело болел. В его стихах метафора пленного духа, Одиссея у Калипсо, многократно овеществлена — больницами, оконными переплетами (это окно с бесконечным снегом за ним, как единственный выход, видный человеку, прикованному к кровати, насквозь проходит через всю книгу), пленом болезни, пленом собственного тела, теряющего подвижность: «Холодно и людно. Сказав прощай, / некуда уйти. Перемена поз — / вот и вся разлука. Перенимай / призрака привычку глядеть без слез». Единственный путь к освобождению — осознание рабства.
Поэзия вообще — это такая модель человека, в котором физические (языковые) и душевные (смысловые) процессы неразделимы: «Душа идет домой путями плоти». Так философ-стоик Эпиктет призывал человека отбросить «не принадлежащее ему», а именно то, что может причинить боль, отрываясь: сперва незначительное — горшок, хитон, лошадь, землю, а затем и «самого себя, тело, части тела». Это то, что делает Дашевский с поэзией и что он в ней тематизирует: «Собственное сердце откушу». Он отчуждает собственную речь, как изменяющее ему тело, и разлагает ее, выделяя внутри своего же текста «собственную» речь курсивом, как цитату, чтобы сквозь нее разглядеть тот воздух, в котором она подвешена. Этим объясняется странная ткань его стихов, которые «и содействуют следствию слабо и коверкают русский язык», как «Марсиане в застенках Генштаба» в его самом известном стихотворении: «Вы в мечту вековую не верьте / нет на Марсе ничто кроме смерти / мы неправда не мучайте мы».
Дашевский, как он сам говорил, писал «только про смерть и сразу до». Его последнее стихотворение — благодарность за каждое, еще одно мгновение жизни, выломленное из «несокрушимых небесных сот». Его беспощадная трезвость действительно вызывает априорное доверие как сообщение о том, что человек — это не монолитное я, а преходящее состояние, сообщение, сделанное из какого-то другого состояния: утробного или посмертного.
Отвернувшись от свадеб чужих и могил,
не дождавшись развязки, я встал
и увидел огромную комнату, зал,
стены, стены, Москву и спросил:
где тот свет, что страницы всегда освещал,
где тот ветер, что их шевелил?
- Издательство «Новое издательство», Москва, 2015