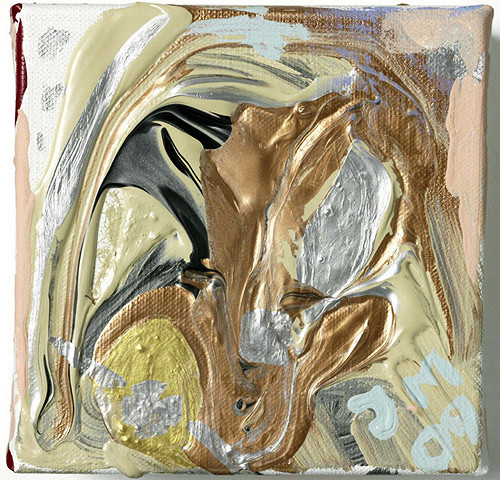«Я обожаю все японское: самураев, манга, еду, кукол, сексуальность» Джонатан Мезе о своей выставке, японской культуре и о том, почему свастика невинна
Сразу в двух московских галереях открываются выставки Джонатана Мезе, экстравагантного немецкого художника, который играючи соединяет живопись с песнями, Бойса с Вагнером, Аляску с аниме. «Афиша» поговорила с Мезе.

— Ваша инсталляция выглядит как гигантский оммаж Бойсу, только вроде как наоборот.
— Да-да, нас вообще с ним часто сравнивают. Но вы правильно заметили, что тут все наоборот. Я, конечно, Бойсом восхищаюсь. Он мощный, мегахаризматичный суперхудожник. Но это было в начале. А потом он совершил ужасающую ошибку. Ударился в политику. И ему пришел конец. Он основал Партию зеленых, потому что перестал доверять искусству.
— То есть когда вы большими буквами пишете на стене «Искусство — это не демократия», вы с Бойсом как будто спорите?
— Да-да. Искусство не идеология, а демократия — идеология. Искусство не религия, не эзотерика, не духовность, не коммерция, не анархия. Оно чистое, оно отдельно от всего, выше всего, ниже всего, в стороне от всего. Искусство живет там, где нет никакой идеологии. А Бойс стал очень идеологизированным.
— Но при этом стратегия у вас похожая, но в такой мультяшной версии. Вы же до 18 лет жили в Японии?
— Я обожаю все японское: самураев, манга, еду, кукол, сексуальность. Все у них прекрасно, великолепно, экстремально — все течет и извергается, изливается из тела, все так чувственно. Японская культура полна эротики и мощи, а с другой стороны, японцы застенчивы — это великолепно, бесподобно, грандиозно. Нам следует у них поучиться. Некоторым кажется, что в японском искусстве слишком много трэша, слишком много юмора, тотальная игра. Бойс под конец перестал играть. А может, он никогда этим особенно не увлекался. В конце концов, он из другого поколения.
— Говоря о поколении Бойса — вы же, как ни странно, учились у Франца Эрхарда Вальтера, художника, который одновременно с Бойсом занимался социальной скульптурой, но совсем в другом, не шаманском, а структуралистском ключе. И вы меньше всего похожи на его ученика.
— Когда пришло время выбирать в школе мастера, я решил, что идеальным вариантом был бы профессор, который меньше всего похож на меня. И мама моя меня в этом поддержала. Франц Эрхард Вальтер — моя полная противоположность. Он точен, строг, жесток — и он был от меня в полном восторге. Мы с ним обсуждали только еду — рецепты, вино. А когда я ему показывал свои работы, он хохотал и приговаривал: «Еще давай, еще!» Он никогда на меня не давил. Если бы я к нему попал раньше, когда он был моложе, он бы меня сразу выгнал. Но к тому моменту, как я к нему поступил, он уже постарел, смягчился и не заставлял меня ему подражать. У тех его учеников, которые слепо его копировали, ничего потом не вышло — их называли «трупами Франца Эрхарда Вальтера». А у меня вышло.
— При этом Вальтер вообще не про живопись.
— Но он ее принимал, потому что он понимает юмор. Для меня Гамбургская академия была как волшебный замок, я там играл не переставая, ночевал там, работал без остановки. Вальтер был моим партнером по игре. Я вообще со всеми играю: с однокурсниками играл, с галеристами играю, с вами вот играю.
— А идея скрещивать перформанс, живопись и инсталляцию вас тогда еще посетила?
— В школе я рисовал и писал, сочинял стихи и рассказы, и мне хотелось как-то это все презентовать. Отсюда и пошел перформанс. Франц Эрхард Вальтер любил позировать на фоне своих работ, вот так (вскакивает, скрещивает руки на груди и принимает пафосный вид), очень здорово получалось — и работа, и художник на ее фоне. Я решил, что можно не только позировать, но и подвигаться немножко. Так я стал бегать, кричать, бесноваться, петь, надевать маски. Сейчас я предпочитаю в основном выступать с речами. Но вот еще 10 лет назад любил переодеваться, орать, прыгать и напиваться — боже, как я бывал иногда пьян на перформансах, да… Это все произошло естественным образом. Вот, например, как показать 2000 рисунков одновременно? Сделать из них инсталляцию. Многим казалось, что это трэш, но для меня все обладает большой ценностью.
— Вы один из самых коммерчески успешных художников вашего поколения в Германии.
— Ну да, так и должно быть.
«Иногда просто бесит, до чего некоторые лишены чувства юмора. Где юмор-то, а?»
— Ваш друг Даниэль Рихтер, тоже очень успешный живописец, использует в основном кулинарные метафоры, когда говорит об искусстве. А вы какие предпочитаете? Спортивные?
— Мне нравится сравнивать искусство с едой. Еще мне нравятся милитаристские метафоры — что-то очень внятное, точное, что призывает к порядку. «Вперед, солдат искусства!» — вот это по мне. Сексуальность тоже хороша, потому что она вне идеологии. В церкви тебе говорят «встань на колени» — это идеология, а та же фраза в сексуальном контексте совсем другое обозначает. И мне это нравится. Или свастика: в ней самой ничего плохого нет, все зависит от контекста. Все значения должны быть нейтрализованы, и в моей инсталляции так и происходит — у меня тут и детские книжки, и скелеты, и политические призывы, и тексты, и живопись.
— У вас на каждом шагу тевтонские кресты нарисованы. Вас, наверное, на родине много за использование фашистской символики критикуют.
— Да, но сейчас уже меньше. Хотя возмущение нарастает и спадает волнообразно. Иногда случаются обострения, и тогда все начинают кричать, что это нацизм. Но это их проблема, что они такие идеологизированные, — они просто видят свое отражение. Иногда просто бесит, до чего некоторые лишены чувства юмора. Где юмор-то, а? Люди слишком религиозны, они хотят молиться, преклоняться перед чем-то, они хотят спихнуть всю ответственность на политиков, на партии, на эзотерику. В искусстве переложить ответственность не на кого, в искусстве нет вождей, кроме художников. В искусстве нас ведут вперед абстракции — солнце, сон, еда. Я люблю есть, я люблю пить, мой метаболизм ведет меня в будущее. Научиться переваривать еду и спать нельзя — и так же нельзя научиться искусству. Я еще в арт-школе это заметил.
— Но в Германии при этом отличные арт-школы.
— Сейчас уже не так, как раньше, — сейчас все молятся на деньги, надо искусством зарабатывать, даже если тебе всего 25 лет. Я вот никогда не хотел зарабатывать и поэтому стал зарабатывать так много.
— Вы делаете перформансы только на вернисажах, на ярмарках — то есть по приглашению. Думаете, этого достаточно, чтобы установить диктатуру искусства, о которой вы так часто говорите?
— Да, безусловно. Если делать перформанс на улице, улица вас тут же поглотит. Партизанские интервенции превращают вас просто-напросто в уличного политика. Конечно, я бы сделал перформанс для всей Москвы — если вся Москва меня пригласит, если мне скажут: «Выступи перед 10 миллионами, произнеси речь». А что, я с радостью. Но навязываться не хочется — я, в конце концов, слишком застенчив для того, чтобы реальными средствами завоевывать реальность. Мой долг — бороться за антиреальность, и я могу это делать в рисунке, в книжке, в целом городе, на целой планете — если меня пригласят, конечно. Главное в этом деле — сохранять невинность. Если я перестану быть невинным, я тут же прекращу этим заниматься.
— А если вы не заметите, как это произойдет?
— Тогда я превращусь в политика, и это действительно большая проблема. Меня все время втягивают в реальность. Вот, например, в Байройте, где я ставлю Вагнера, уже нашлись люди, которые ждут, что я сделаю ультраправую постановку. Вообще, все думают про меня разное: некоторые считают меня очень левым, некоторые — очень правым, некоторые думают, что я анархист, некоторые — что я религиозный фанатик. В Германии кое-какие издания уже не желают делать со мной интервью. Звучат заявления, что я полное дерьмо и не должен прикасаться к Вагнеру, потому что он — святыня. Есть упертые вагнерианцы, которые считают, что я обязан ни на шаг не отступать от оригинала, а другие полагают, что я должен сделать политическую сатиру — чего я делать не стану. Нет, художник не будет комедиантом на службе у политиков!
— То, что вы сейчас озвучиваете, тоже называют идеологией, только либеральной.
— Либерализм — плохо. Анархия — тоже плохо. Плохо, плохо, плохо, ненавижу, ненавижу! Как ребенок, да? Вот когда от всего этого мы избавимся, тогда настанет диктатура искусства. Вообще-то 50000 лет назад она уже существовала, но потом появились шаманы — они противопоставили себя остальным и стали первыми политиками. И Бойс вот тоже был шаманом. А я не шаман. Искусство для меня — единственный вождь.
Работы Джонатана Мезе можно увидеть на двух площадках: в галерее Red October до 10 апреля и в галерее «Риджина» до 31 марта